Краткий очерк истории русской медицины. III. Период иностранных влияний в русской медицине
Петровские реформы. Учреждение архиятерства. Роберт Эрскин и Иоганн Блюментрост. Реформы Фишера. Лесток. Деятельность Кондо- иди. Учреждение Медицинской коллегии. Медицинский департамент министерства внутренних дел. Местные медицинские учреждения. Приказы общественного призрения. Иностранные доктора и русские лекаря. Аптечное дело в России XVIII в. Учреждение Московского гофшпиталя, госпитали в Петербурге и Кронштадте. Воспитательные дома. Основание сифилитического отделения при Калинкинской больнице. Введение оспопрививания в России. Карантины против чумы. Вспышки чумы в Москве в 1771 г. Холерные бунты в XIX в. Госпитальные школы. Деятельность Николая Бидлоо. Антон де Тейльс. Внутреннее положение школ после Бидлоо и до реформ Кондоиди. Калинкинское училище и его судьба. Борьба партий. Основание медицинского факультета Московского университета. Первые преподаватели. Влияние Новикова и масонов. Устав 1804 г. Разгром Руничем и Магницким Петербургского и Казанского университетов. Реакция царствования Николая I. Устав 1835 г. Преобразование госпитальных школ в Медико-хирургические училища. Деятельность Франка и Виллие. Особенности русской терапии и хирургии в XVIII в. Ученики Бидлоо. Щепин. Деятельность Ивана Шрейбера. Влияние Бургава. Зыбелин и его воззрения. Проникновение в Россию броунизма. Профессор Мудрое. Московские хирурги. Иноземцев. Влияние последнего на русских врачей его эпохи. Перенесение на русскую почву философии Шеллинга. Велланский. Введение в России перкуссии и аускультации, Карл Зейдлиц. Анатом Загорский. Хирургическая школа Буша. Буяльский и его борьба с Пи- роговым. Раскол русского общества на славянофилов и западников.
Новый период в истории русской медицины начинается со времени Петровских реформ, т. е. эпохи, когда торговый капитал, после Северной войны, достиг своего мощного расцвета в стране и когда на вспаханной этими реформами почве начал понемногу развиваться в России промышленный капитализм. Вернее даже было бы сказать, что начало русской медицины совпадает с указанным историческим периодом, ибо все то, что было у нас до Петра Первого, только с большой натяжкой может быть названо медициной: были только отдельные иностранные врачи, были заботы об охране здоровья царской семьи и высших классов общества, но не замечалось никакой заботы об истинном насаждении и развитии широкой народной медицины, ибо не существовало такого объединяющего центра, который сорганизовал бы все медико-санитарное дело в стране. Лишь с основанием первых медицинских школ и учреждением центрального медицинского управления в начале XVIII в. кладется в России первый здоровый зародыш для дальнейшего развития русской медицины. Какие же социально-экономические причины вызвали эту реформу в медицинском деле? [23]
Торговый капитал не организовал производства: он брал готовое. Крестьянин сеял и жал хлеб, сапожник тачал сапоги, а купец приходил и брал, иногда давая в долг сырье, чтобы вернее закабалить мелкого производителя. Благодаря этому оказалось возможным собрать и двинуть на рынок огромное количество товара. Но при всем том самостоятельное мелкое производство, будучи малоподвижно по своей природе, не могло способствовать дальнейшему развитию у нас обрабатывающей промышленности. Поэтому с начала XVIII в. у нас начинают возникать фабрики и заводы. Так, первые железные заводы были основаны иностранцами: Виниусом в Туле и Марселисом в Костроме. И хотя вначале промышленность у нас была представлена главным образом иностранцами, но при Петре Первом делаются уже первые попытки насаждения отечественной промышленности. Таковы были заботы об устройстве полотняных мануфактур с сотнями рабочих, собранных в одном помещении, где можно было ткать полотно на всякие образцы и в любом количестве. Появляется в России новый промышленный класс, требующий свободного развития всех производительных сил страны. А так как для поднятия промышленности необходимо было поднятие народного образования, то Петр I, идя навстречу нуждам промышленников, создает различные профессиональные школы, среди которых появляются и первые медицинские училища (рис. 17).
Но несмотря на торжество промышленного капитализма, устройство государства в России оставалось таким, каким его создал торговый капитал для своих потребностей. В русских мануфактурах XVIII в. мастеровые были люди несвободные, а именно, либо крепостные хозяина мануфактуры, либо арестанты и солдаты, отданные в распоряжение хозяина начальством. Поэтому, несмотря на самые варварские наказания, употреблявшиеся на мануфактурах, из рабочего мануфактуры все же не удавалось выбить столько прибавочной прибыли, сколько можно было выжать из свободного кустаря. В силу этого большая часть русских фабрикантов XVIII в. разорялась и превращалась в скупщиков. В противоположность этому, торговый капитал в России окончательно вырос и окреп, причем благоприятным моментом для него оказалась происшедшая в середине XVIII в. в Англии промышленная революция. С этих пор в Англии начинается чрезвычайный рост городского, не земледельческого населения, и одновременно с этим совпадает большое оживление среди русских помещиков. Они начинают писать о том, что пшеница — самый выгодный товар и что России самой судьбой предназначено быть житницей Европы и источником пшеницы для всех западных стран. Отсюда стремление России к берегам Балтийского и Черного морей, приведшее к ряду войн, заполнивших собою весь XVIII и часть XIX вв. В результате этой внешней политики России мы видим рост у нас регулярной армии, откуда являлась потребность в создании кадра военных врачей. Таким образом, и первые медицинские школы были приспособлены главным образом к военным нуждам, и потому русская медицина XVIII в. на первых шагах своего развития представляется нам как преимущественно медицина военная. И если медицина XVII в. была медициной царско-боярской, то медицина послепетровской Руси была медициной дворянско-военной.

Рис. 17. Памятник Петру I на территории Главного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко. Госпиталь основан по именному указу Петра I от 25 мая 1706 г. о создании лечебного и учебного медицинского учреждения
Но одновременно с господством торгового капитала, выросшего у нас на хлебном вывозе, появляется у нас и чиновничество, или бюрократия. Люди совсем незнатного происхождения, они держали в руках огромную власть. При Петре чиновничество, усиленное вызванными из-за границы специалистами этого дела, окончательно сорганизовалось. Все служащие государству были распределены по Табели о рангах на четырнадцать классов. Значение человека в обществе измерялось тем, какое место в Табели о рангах он занимал, какой чин был на нем. Соответственно этому, и медицинскому управлению был придан характер бюрократического устройства, и во главе всего медицинского дела в России была поставлена Медицинская канцелярия с архиятерами. Правда, следует отметить, что в первую половину XVIII в., пока промышленный капитал имел еще достаточно сил, чтобы оказывать заметный отпор капиталу торговому, в русской медицине бился еще пульс здоровой жизни, внесенный в нее с помощью Петра голландцем Николаем Ламбертовичем Бидлоо (1670-1735). Но со времени Екатерины II, когда стали разоряться русские мануфактуристы, бюрократическая рутина окончательно пропитывает собою все медицинское дело в России и почти без изменений владеет им до возникновения земских учреждений.

Н. Бидлоо
Мы уже видели, что еще до Петра II существовал в России Аптекарский приказ, долженствовавший первоначально объединить все медицинское дело в стране, но затем ограничившийся обслуживанием нужд только царского двора. Петр I, отвечая новым потребностям времени, уничтожил в 1716 г. Аптекарский приказ, переименовав его в Канцелярию Главнейшей аптеки и изъяв в то же время все высшее медицинское управление из рук боярина в руки врача, причем во главе его был поставлен лейб-медик Петра, Роберт Эрскин (Robert Areskine), родом шотландец. Он был определен в должность архиятера, т. е. главного начальника всей медицинской части в России, и медицина сделалась с этих пор достоянием более широких, хотя и не всех еще слоев русского народа. Эрскин, искусный и образованный врач, прибывший в Россию еще в 1706 г., был человек болезненный и потому не смог объединить вокруг архиятерства всего медицинского дела. Так, вне его влияния оставался основанный Бидлоо военный госпиталь. Впрочем, Эрскин недолго оставался на своем посту и скончался в 1718 г., окруженный большим почетом. За время своего непродолжительного пребывания на посту архиятера он значительно усовершенствовал медицинскую часть в России. В функции архиятерства входило управление всей медицинской частью в стране, наем на должности, увольнение и оплата жалованья врачам и аптекарям, надзор за госпиталями, аптеками и медицинскими школами, а также борьба с эпидемиями.
После смерти Эрскина архиятером был Лаврентий Блюментрост (Laurentius Blumentrost, 1692-1755), сын лейб-медика царя Алексея Михайловича. Он родился в России и был затем отправлен в Германию для обучения медицине. По возвращении его в Россию он был назначен после Эрскина архиятером, причем в 1721 г. представил Петру I проект учреждения Медицинской коллегии, каковая вскоре была узаконена как правительственное учреждение, а в 1725 г. была переименована в Медицинскую канцелярию. В Медицинской канцелярии было два отделения: собственно медицинская канцелярия, находившаяся большей частью в Петербурге, и медицинская контора — в Москве, которые иногда менялись местами в зависимости от местопребывания архиятера. На долю Блюментроста выпало продолжать начатые Петром I реформы в медицинском деле. Вместе с Эрскиным он занимает вполне заслуженное место в рядах сподвижников Петра. Но деятельность Блюментроста была неожиданно прервана со вступлением на престол русских царей Анны Иоанновны. Дело в том, что реформы Петра, насаждаемые в России в интересах промышленного капитала, встречали противодействие в стране со стороны консервативного торгового капитала. С другой стороны, появившиеся после Петра в России в большом числе иностранцы большей частью мало были заинтересованы в дальнейшем экономическом процветании России и, отстаивая интересы своего иностранного капитала, видели в России только рынок для сбыта заграничных фабрикатов, только объект для преследования своих личных выгод с целью наживы. В этом отношении, являясь враждебными самостоятельному развитию нашей промышленности, они находили себе верного союзника в лице дворянства и торгового капитала. Отсюда прямая или замаскированная враждебность этих групп Петровским реформам. Борьба между собою этих двух общественных групп с русским капиталом, еще мало заметная при жизни Петра I, все более выявляется на всем протяжении XVIII и XIX вв. При преемниках Петра отражением этой борьбы было соперничество между так называемой русской партией, желавшей стране экономического и культурного прогресса, и немецкой партией, стремившейся подчинить себе в России все, что было возможно. Эта борьба партий не оставалась и без влияния на медицину. Поэтому, когда вместе с Анной Иоанновной усилилось в России влияние немецкой партии, вместе с ее появлением был удален от дел и Блюментрост.

И. Блюментрост
После удаления Блюментроста было уничтожено также и архиятерство, взамен чего и было учреждено в Москве особое коллегиальное управление медицинской частью, так называемое Докторское собрание. Но неурядицы в Докторском собрании вызвали в 1732 г. необходимость вновь восстановить архиятерство и Медицинскую канцелярию. Во главе медицинского дела, после непродолжительного архиятерства Рюгера, вскоре бежавшего за границу, стал Иоганн Бернгард Фишер (1685-1772), талантливый администратор, много содействовавший поднятию медицинского образования в России. Это был умный и энергичный человек, хотя и самовластный, любивший науку и учение. Он ввел строгую отчетность в расходах Медицинской канцелярии, определил положение больших госпиталей изданием в 1735 г. генерального регламента о госпиталях. Предметом особенной его заботы было поддержать после смерти Бидлоо московскую медицинскую школу от распада. Это было тем более необходимо, что, вследствие войны и чумы 1738 г., московские госпиталя лишились почти всех своих преподавателей. Волей-неволей пришлось Фишеру определить в московскую школу первого попавшегося ему под руку человека, и таким оказался доктор при Главной Московской аптеке Антон де Тейльс, с презрением относившийся к русскому народу, так как, по его мнению, «русские вообще неспособны к серьезному образованию», в том числе не в состоянии они постигнуть тайну медицинской науки. Однако, несмотря на такое отношение к делуде Тейльса, назначение его в московскую школу может быть поставлено в заслугу Фишеру, ибо лишь благодаря этому удалось спасти от распада школу после смерти Бидлоо. Другой заботой Фишера было организовать medicinam publicam, т. е. медицинскую полицию. Когда Медицинская коллегия была переименована в Медицинскую канцелярию, при ней был образован особый род службы, службы «физических дел», предметом ведения которой были заботы об охране народного здоровья и освидетельствование живых лиц. Для этой цели в Москве и Петербурге были введены штадтфизики, которые должны были осматривать аптеки, ботанические сады, арестовывать знахарей и шарлатанов, производить судебно-медицинские вскрытия, осматривать больных в губернских канцеляриях, свидетельствовать рекрутов, производить экзамены лекарей и подлекарей при поступлении их на службу.

Г. Лесток
Архиятера Фишера постигла судьба Блюментроста, и когда с воцарением Елизаветы Петровны у власти стала русская партия, он был удален от дел. Следует отметить, что в происшедшем перевороте значительное участие принимал французский посланник при русском дворе, который, взирая на возрастающее могущество Пруссии, не мог оставаться равнодушным к усилению немецкого влияния в великой восточной империи. Мы, таким образом, видим, что еще в XVIII в. сходились пути русских и французских промышленников, являясь одновременно враждебными интересам промышленников немецких. Следствием происшедшего переворота было то, что на посту архиятера появился ставленник французского посла Герман Лесток (1692-1767), бывший лейбмедиком Елизаветы Петровны еще в царствование Екатерины I. На другой же день после вступления на престол Елизаветы Лесток «за его особенные верные и давние услуги и чрезвычайное искусство» был возведен в чин действительного тайного советника и назначен первым лейб-медиком и главным директором Медицинской канцелярии и «всего медицинского факультета в России» с жалованьем в 7000 рублей в год. Приняв в свое ведение «медицинский факультет», он прямо сознался, что ничего не смыслит в администрации, и избрал себе опытных помощников, Кондоиди и Лерхе. Сам же он больше занимался придворными интригами, пока не попался и был посажен в Петропавловскую крепость. С его именем связано постановление о том, чтобы все распоряжения Медицинской канцелярии писались не на немецком, а на русском языке.
После падения Лестока непродолжительное время должность архиятера занимал Герман Каау Бургав, племянник знаменитого голландского клинициста. На смену ему явился Павел Захарович Кондоиди, деятельность коего была особенно благотворна для судеб русской медицины. Грек по происхождению, Кондоиди родился на острове Корфу, и в царствование Петра Первого был перевезен своим дядей в Россию в молодых годах. Медицинское образование он получил в Лейдене, после чего возвратился в Россию, где был определен на службу в Украинский корпус. Здесь вскоре он был назначен генеральным штаб-доктором в армию Миниха. На этой должности он проявил себя рядом весьма целесообразных мероприятий. Прежде всего он составил инструкцию для штаб-докторов из 18 пунктов, заключавшую все их обязанности и права. Затем он установил должности инспекторов госпиталей и, наконец, учредил ученые совещания врачей армии. При воцарении Елизаветы он был вызван Лестоком в Петербург, и когда Лесток уехал с двором в Москву, то Кондоиди было поручено управление всеми делами петербургской конторы. Первым актом деятельности Кондоиди было распоряжение составить список всех врачей с указанием их службы. Затем он установил срок учения и экзамены в медицинских школах, основал четыре полевые аптеки со штатами для них и многое другое. После смерти Германа Бургава Кондоиди был назначен главным директором Медицинской канцелярии. Вступив в должность, он прежде всего озаботился приведением в порядок госпитальных школ, где в это время стало господствовать среди учеников пьянство и разврат и где, для того чтобы заставить учеников прилежно учиться, стали применять телесные наказания. Кондоиди с большой энергией берется за преобразование всего учебно-медицинского дела в России. Он озаботился о хорошем содержании учеников, отменил телесные наказания для них, выписывал профессоров из-за границы, устроил медицинскую библиотеку. Далее он ввел обязательное вскрытие в больницах трупов умерших для определения причин смерти, учредил акушерские курсы в Петербурге и Москве, устроил карантины на юге, организовал снабжение госпиталей лекарствами и вообще явился реформатором всего нашего медицинского законодательства. Умер он в 1760 г. Его деятельность оставила неизгладимый след в истории русской медицины и так же, как и деятельность Блюментроста, проникнута духом Петровских реформ.
После Кондоиди дела Медицинской канцелярии пришли во временное расстройство, а с воцарением Екатерины II архиятерство было и вовсе упразднено. Но в истории русской медицины архиятерство на протяжении полувека своего существования, от Петра I до Екатерины II, сыграло свою крупную культурную роль для медицинской истории России. Это была первая теоретическая и практическая попытка объединить в одном центральном учреждении все медицинское дело в стране. Со времени Екатерины II, и особенно Александра I, начинается постепенное раздробление медицинского управления по различным ведомствам, и только в наше время, после Октябрьской революции, мы вновь видим попытку объединить все медицинское дело в одних руках. В этом отношении мы усматриваем преемственную идейную связь между петровским архиятерством и современным нам наркомздравом.
Царствование Екатерины II (1762-1796) может быть разделено на две половины: вначале Екатерина шла по пути, указанному Петром I. В это время она увлекается просветительными идеями французских энциклопедистов, высказывает в своем «Наказе» либеральные идеи, ставит на очередь дня вопрос о реформе училищ. Но когда стали сказываться в России экономические последствия развившегося хлебного вывоза за границу, и особенно когда до России докатились раскаты Французской революции, стало обнаруживаться то общее изменение курса внутренней политики, которым отличались царствования всех последующих русских императоров. Возведенная на престол усилиями дворянской партии, Екатерина II совершенно порывает во вторую половину своего правления с русскими промышленниками и в дальнейшем всю свою государственную деятельность направляет в интересах дворянского сословия, так что с этих пор самодержавная власть в России становится классовой формой господства дворян. В 1785 г. опубликовывается Жалованная грамота дворянству, по коей дворяне получали как личные, так и имущественные и корпоративные права. Образование, суд, государственное управление — все с этих пор приноравливается к интересам дворянства. Всякое свободное проявление независимой мысли, враждебное существующему строю, подавляется в самом начале. В связи с этим направлением политики медицинское дело также было изъято из рук врачей и передано в 1763 г. в руки чисто бюрократического учреждения, Медицинской коллегии. Изъятие санитарного дела из рук медиков лицемерно объяснялось недостаточным количеством последних, а также ходячим утверждением исхода XVIII в., будто специалисты-медики вовсе не способны к охранению народного здоровья от разных случайных явлений, действующих губительно на народ. Впрочем, доля истины имелась в этом утверждении, ибо ничтожному тогдашнему медицинскому персоналу едва ли было впору справиться с прямыми лечебными задачами.
Открытая в 1763 г. Медицинская коллегия представляла собою коллегиальное учреждение с президентом во главе ее. Последний в заседаниях коллегии пользовался только одним голосом, тогда как раньше архиятеры были единоличными правителями. Первым президентом Медицинской коллегии был барон Александр Иванович Черкасов (1728-1788), который, не будучи врачем, страстно любил медицину и следил за ее развитием. Во время своего пребывания в Англии он из любви к науке слушал лекции знаменитых медиков, а в 1762 г. написал «план устройства правильного медицинского управления». Русские врачи были ему весьма многим обязаны, и в истории медицинского сословия он останется навсегда памятен тем, что был постоянным заступником за своих подчиненных. При учреждении коллегии по инструкции, данной ей, в ее функции входили две задачи: «сохранение врачеванием народа в империи» и «заведение российских докторов». Барон Черкасов, в бытность свою на посту президента коллегии, развил неутомимую деятельность, согласно полученной инструкции. Благодаря его стараниям в 1764 г. был открыт при Московском университете медицинский факультет, улучшено преподавание в госпитальных школах. Он содействовал также введению оспопрививания в России, а в 1764 г. издал указ, по которому Медицинская коллегия получила право давать звание доктора медицины, тогда как до тех пор звание доктора медицины можно было получить только в иностранных университетах. Этот акт барона Черкасова вызвал против него ненависть со стороны иностранных врачей и немецкой партии, которые ждали только случая, чтобы захватить в свои руки медицинское управление.

А. И. Черкасов
Когда в 1788 г. в Медицинской коллегии была обнаружена растрата сумм, то над должностью президента был поставлен главный директор коллегии. Первым директором был ставленник немецкой партии, барон Иван Федорович Фитингоф (1720-1792), деспот по природе, не терпевший никаких возражений. О коллегиальном управлении пришлось совершенно забыть, и Фитингоф по собственному произволу раздавал места и кафедры, возводил в степень доктора и т. п. Полную противоположность Фитингофу представлял его преемник, граф Алексей Иванович Васильев (1742-1807), который искренно стремился к преобразованию медицинских школ, результатом чего был проект об учреждении Медико-хирургической академии.
Дальнейшую эволюцию претерпело центральное медицинское управление в России при Александре I с учреждением министерств. В 1803 г. исчезло центральное единое медицинское управление и разбилось по отдельным ведомствам на дворцовую медицину, военную, гражданскую, морскую и т. д. Все врачи этих ведомств, частью через своего главного врача, частью через посредство Медицинского департамента Министерства внутренних дел, подчинялись соответствующим министерствам. Одновременно с этим, при Министерстве внутренних дел был образован Медицинский совет, высшее врачебно-ученое учреждение, для рассмотрения вопросов охранения народного здоровья, врачевания и экспертизы. Его ведению подлежали мероприятия, касающиеся медицинского устройства и врачебно-санитарной части. Кроме того, Медицинский совет давал заключения по делам медицинского характера, вносимым на его рассмотрение разными другими ведомствами. В его функции входило также составление фармакопеи, выработка таксы за судебно-медицинские исследования, признание за минеральными источниками общественного значения, рассмотрение медицинских свидетельств и дипломов иностранных университетов. В составе Медицинского совета были председатель, восемнадцать непременных членов, совещательные члены и ученый секретарь. Последний заведовал канцелярией совета и докладывал министру внутренних дел обо всех делах его. Во главе Медицинского совета сначала стояли обычные чиновники, и лишь с Николая I на эту должность стали назначаться врачи. В общем, за небольшими изменениями, структура этого учреждения в таком же виде сохранилась до конца XIX в. [24].

А. И. Васильев
Сравнивая между собою положение медицинского управления во времена архиятерства, Медицинской коллегии и Медицинского совета, мы видим постепенный регресс, объясняемый упадком влияния промышленного класса и возрастанием роли дворянства. Архиятерство, плоть от плоти эпохи Петровских реформ, объединяло всю медицинскую часть в стране, создавая плодородную почву для дальнейшего развития русской медицины. И действительно, деятельности архиятеров должны мы приписать тот факт, что на ниве русской медицины могли в ту раннюю эпоху появиться такие выдающиеся для своего времени явления в медицинском мире, как преподаватели госпитальных школ, Щепин и Шрейбер, о которых нам еще придется говорить. Медицинская коллегия уже находилась под влиянием двух взаимно противоположных исторических факторов — реформ Петра I и Жалованной грамоты дворянству, данной Екатериной II русским землевладельцам. Поэтому результаты деятельности Медицинской коллегии были менее ощутительны для русской медицины. Наконец, Медицинский совет появился в эпоху расцвета дворянского государства и потому не только не оказал благотворного влияния на медицину, но подчас тормозил ее дальнейшее прогрессивное развитие.
Обращаясь от центрального медицинского управления к управлению местному, мы замечаем здесь гораздо меньше планомерной организации, нежели в центре. Мы уже видели, что медицина в России, а следовательно, и центральное медицинское управление были приноровлены к потребностям военного ведомства. Для обслуживания же всего остального населения в города назначались такие врачи, которые не годились для военной службы, обычно состарившиеся, дряхлые. Города обязаны были содержать таких врачей на свои доходы и давать им, кроме денежного содержания, еще бесплатную квартиру. Только в Петербурге и Москве существовали должности штадтфизиков, получавших содержание от правительства. Архиятер Фишер учредил должности постоянных городовых врачей, с одинаковым повсюду содержанием, «для пользования обывателей в их болезнях». Однако городовые магистраты неохотно соглашались содержать врачей, не оценивая всей важности санитарного обеспечения народа. Кроме того, большинство врачей были иностранцы, плохо говорившие по русски и с пренебрежением относившиеся к русскому «простому народу», ибо они считали себя обязанными служить правительству, а не народу. Жители же, не доверяя лекарям, особенно во время бироновщины, редко обращались за помощью к «басурману», тем более что врачи держали себя, как в завоеванной стране. К тому еще надо принять во внимание, что русский народ в то время был в массе невежествен, считая болезни наказанием Божьим за грехи. Поэтому лечение считалось греховным сопротивлением ниспосланному от Бога наказанию, и для излечения надо было умилостивлять только святых угодников.
При Екатерине II, когда у власти стала дворянская партия, все заботы о народном благе были переданы в 1775 г. Приказам общественного призрения, состоявшим из председателя, губернатора и трех членов депутатов, по одному от дворянства, купечества и поселян. Приказы общественного призрения, ведавшие медициной в городах до введения земских учреждений, были насквозь проникнуты формализмом и рутиной.
При Павле I были учреждены губернские врачебные управы, впоследствии преобразованные во врачебные отделения губернских правлений, во главе которых находились медицинские инспектора, долженствовавшие наблюдать за госпиталями и аптеками. Наконец, в 1852 г. для принятия мер к предупреждению эпидемических заболеваний были учреждены Комитеты общественного здоровья, в состав которых входили предводитель дворянства, исправник, городовой врач, городской голова и старшее в городе духовное лицо.
Все эти учреждения в своих работах руководствовались распоряжениями, исходящими из центра. Чиновники, не имевшие никакого понятия о медицине и ее требованиях, писали приказы и циркуляры, чиновники же их исполняли, и живая действительность отходила на задний план перед чисто формальным отношением к делу. Врач рисовался народу в образе грозного чиновника, приезжавшего то на вскрытие мертвых тел и установление виновных, то на искоренение болезней с помощью административных мер и наказаний. В деятельности врачей не видно было никаких положительных мероприятий, которые могли бы внушить народу доверие к служителям медицины. Все лечение обыкновенно начиналось и оканчивалось или кровопусканием, или липовым цветом. Отсюда отрицательное, подчас прямо враждебное отношение к врачам, отсюда холерные беспорядки и волнения, отсюда вера народа в знахарство, этот исконный суррогат медицинской помощи у русского народа. Так, мало-помалу налаженное у нас стараниями Петра I врачебное дело стало приходить в состояние полного разложения. Под влиянием самых невообразимых злоупотреблений, лихоимства и хищений упадок медицинских учреждений шел быстрым темпом, параллельно упадку всякого рода других учреждений. Госпитали и больницы разрушались и превращались в кучу обломков. И все это сопровождалось льстивыми восхвалениями неусыпной бдительности и мудрости начальства, почти сплошь состоявшего из представителей дворян.
Кто же был в эту эпоху представителем медицинской деятельности, какие группы несли высокое служение культу Эскулапа в те времена? Среди разнообразной толпы медицинского сословия не было равенства. Были привилегированные врачи и были парии, были богатые и были бедняки. Верхушку медицинской общественной лестницы занимали доктора медицины, большей частью иностранцы, которые при приезде в Россию подвергались особому экзамену. Со времен Петра I доктора в войсках были в ранге капитана, но дальнейшего движения в чинах для них не существовало. Только Кондоиди установил для врачей возможность дальнейшего производства в чинах. Тем не менее положение врачей в армии было незавидным, и дворянское офицерство обращалось с врачами грубо и насмешливо. Ниже докторов были лекаря, выпускавшиеся из госпитальных школ. После шестилетней государственной службы они производились в штаб-лекаря. Жалованье врачи получали наполовину деньгами, наполовину сибирскими товарами. Еще ниже положение занимали подлекаря, которые не пользовались правом практики, но на военной службе могли заменить лекарей.
Среди дипломированных врачей не было специализации, и они должны были владеть всеми отраслями медицины. Но наряду с ними существовали особые эмпирики, специализировавшиеся в той или иной отрасли медицинской науки. Сюда прежде всего относятся зубные врачи, впервые появившиеся в остзейских губерниях, а затем проникшие в остальную Россию. Далее, таковы же были особые специалисты по глазным болезням, появившиеся в большом количестве и переходившие с переносным ящиком инструментов с места на место, а иногда имевшие даже собственные лечебницы. Но из всех лечебных специальностей наиболее славились специалисты по операции каменной болезни. В Москве была даже учреждена особая школа литотомистов[*]. Акушерки появились у нас еще во времена Петра I. Первые повивальные бабки прибыли в Россию в 1712 г. вместе с женой царевича Алексея, брауншвейгской принцессой. В 1740 г. появилась в России некая повивальная бабка, по имени Энгельбрехт, которая обладала такими основательными знаниями, что была даже рекомендована Блюментростом к царскому двору. Обыкновенно повивальные бабки у нас были родом из Голландии, поэтому их называли «бабка голландская», или просто «умная голландка».
К числу эмпириков могут также быть отнесены и так называемые «цесарцы», или «венгерцы». Когда с расширением знаний в народе авторитет знахарства стал падать, благодаря тому что оно, будучи сопряжено с некоторыми суеверными обрядами, пугало воображение, то на смену ему появилось лечение бродячих шарлатанов, цесарцев, или венгерцев. Эти венгерцы с большими коробками на плечах переходили из города в город, из деревни в деревню и продавали пузырьки и коробочки против всех болезней. Особенной популярностью пользовались средства против «подкатывания под сердце» у женщин и против «трясучей лихорадки». Этих непризнанных врачевателей развелось в России так много, что архиятер Блюментрост вынужден был испросить у Сената особый закон об их преследовании. Впрочем, закон этот очень слабо исполнялся. Таким образом, в данном случае мы видим здесь некоторую аналогию с положением медицинского сословия в Западной Европе в Средние века. Там наряду с учеными врачами были ремесленники своего дела, цирюльники. То же самое было и у нас. Но так как ремесленные цехи в России не приобрели того значения, что на Западе, то и влияние эмпириков на развитие русской медицины было невелико.
Обращаясь теперь к изложению результатов медицинской деятельности за описываемый период, мы видим, что она обнимала собой три различные отрасли: аптечное дело, госпитальное дело и санитарное дело. Что касается аптек, то к началу XVIII в. в Москве существовали только две аптеки, верхняя и нижняя, о которых нам приходилось уже упоминать. При Петре I появились, вместе с основанием госпиталей, госпитальные аптеки, а вскоре затем и полевые аптеки в войсках. Последние сосредоточивали в себе все медицинское хозяйство части войск, к которой были приписаны. Одновременно с правительственными аптеками появились и вольные аптеки, которые пользовались правом беспошлинного ввоза лекарств из-за границы. При аптеках были «аптекарские огороды», служившие запасными магазинами аптечных материалов и обширными лабораториями для фармацевтических операций. Но большинство лекарств выписывалось из Голландии, с которой Россия находилась в особенно оживленных торговых сношениях. Следует указать, что в начале наряду с чисто рациональными средствами еще долго были в ходу такие мистические лекарства, как сало псовое, мясо змеиное, заячьи лодыжки и многие другие. Вообще, на аптеку смотрели, как на складочное место, в котором можно найти все редкостное и иностранное. Так, в 1707 г. царский двор потребовал из аптеки лака и красок для окраски императорской яхты, в 1737 г. потребовали пять фунтов сулемы для фейерверка и мышьяка для истребления мышей. Посуда для аптеки стала получаться с 1736 г. с Ямбургских стеклянных заводов. Инструментальных заводов тогда еще не было, и их заменяли опытные мастера инструментального дела, находившиеся в ведении главных аптек. Поэтому содержание в исправности хирургических инструментов было функцией главных аптек. При полках существовали особые полковые наборы, в состав коих с 1738 г. были введены турникеты. Первые хирургические фабрики были основаны при бароне Черкасове в Петербурге и Тобольске. Фармакопея впервые была издана в 1778 г. Для обучения аптечному делу в главные аптеки принимались ученики, которые здесь знакомились с основами фармации, а через 4-5 лет экзаменовались на степень гезеля. При экзаменах на гезеля ученик должен был показать, что он «умеет гнать воды и олеи, делать экстракты, и соли, соки и полевые травы, которые официальными называются, сушить и ощипывать, и малое число по латыни читать и писать и коликое число рисовать». После экзамена гезели направлялись в полевые аптеки на несколько лет, чтобы приготовиться к экзамену на степень провизора. После экзамена они возвращались в главную аптеку, где получали звание аптекаря (рис. 18).

Рис. 18. Гражданская аптека XVIII в. (иллюстрация из книги Мирского М. Б., 1996)
Широко развернулось в послепетровской Руси госпитальное дело. Первой больницей в России в настоящем значении этого слова был Московский «гофшпиталь», построенный в 1706 г. по указу Петра I за рекой Яузой против Немецкой слободы «в пристойном месте для лечения болящих людей». Этот госпиталь был не только первым больничным учреждением, но также и первой медицинской школой. Госпиталь был деревянный и состоял из нескольких двухэтажных флигелей. Содержался он сначала на средства Монастырского приказа, а с 1755 г. перешел из синодального ведомства в военное (рис. 19, 20 и 21).
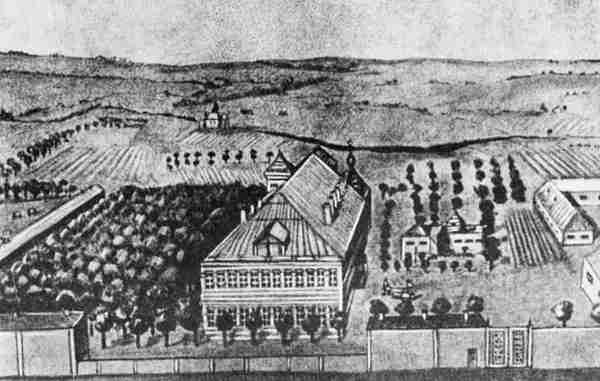
Рис. 19. Московский госпиталь в начале XVIII в. В мае 1737 г. это здание сгорело, в 1739 г. его отстроили заново, но в 1756 г. на его месте было построено каменное здание с домовой церковью. В январе 1755 г., в царствование императрицы Елизаветы Петровны, госпиталь передан в Военное ведомство и переименован в Московский генеральный сухопутный госпиталь (иллюстрация из книги Мирского М. Б., 1996)

Рис. 20. Главный корпус Московского генерального сухопутного госпиталя в начале XIX в. Здание построено в 1797-1802 гг. по проекту московского архитектора Ивана Еготова
 Рис. 21. Первое здание Московского госпиталя в 2006 г. В настоящее время в нем находится неврологическое отделение и домовая церковь. Это самое старое здание на территории Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко
Рис. 21. Первое здание Московского госпиталя в 2006 г. В настоящее время в нем находится неврологическое отделение и домовая церковь. Это самое старое здание на территории Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко
Главным источником средств госпиталя были доходы с монастырских вотчин, но наряду с этим были и другие источники. Сюда относится прежде всего «сбор с венечных памятей», т. е. налог с лиц, вступивших в брак. Далее, средства его составляли так называемые лазаретные и штрафные деньги. Под лазаретными деньгами подразумевались вычеты, делавшиеся в пользу госпиталя из жалованья чиновников, а штрафные деньги составлялись из взносов лиц, не явившихся на духовную исповедь. Хозяйственные обязанности в госпитале несли крестьяне из приписанных к госпиталю волостей Монастырского приказа. Обязанности же фельдшеров исполняли ученики госпитальных школ.
В административном отношении Московский госпиталь подчинялся Синоду, а не Медицинской канцелярии. Архиятер Эрскин совершенно не вмешивался в дела госпиталя, а его преемник, Иван Блюментрост, хотя и стремился подчинить себе госпиталь, но ему это не удалось, благодаря сопротивлению Синода и поддержке главного доктора госпиталя, Н. Бидлоо, которую тот оказывал Синоду.
При Анне Иоанновне было учреждено еще три «генеральных» госпиталя — два в Петербурге, сухопутный и морской, и один в Кронштадте. Для объединения управления госпиталями архиятер Фишер представил в 1736 г. императрице проект подчинения всех госпиталей медицинской канцелярии и составил свой «генеральный регламент о госпиталях», первый русский госпитальный устав. Наконец, в 1755 г. все госпитали перешли в Военное ведомство. Рядом с генеральными госпиталями существовало большое количество полевых госпиталей, находившихся со времени Кондоиди под контролем инспекторов госпиталей. Эти инспектора, люди военные и совершенно незнакомые с медициной, не раз вступали в пререкания с главными врачами и сильно мешали рациональной постановке дела в лазаретах. Впрочем, следует отметить, что сам Кондоиди впоследствии жалел об учреждении должности инспекторов, находя это со своей стороны ошибкой. Что касается гражданских больниц, то первая городская больница в Петербурге, Обуховская, была основана в 1784 г. и рассчитана на 400 больных[*]. Но во время Фитингофа госпитальное дело стало приходить в упадок, так что к началу царствования Павла I во всей России не оставалось ни одного госпиталя, где бы можно было мало-мальски удовлетворительно разместить 200 человек больных. В Петербурге, Москве, Киеве и других городах не было ни одной госпитальной палаты, в которой больные были бы защищены от сквозного ветра и дождя. Кронштадтский госпиталь почти совсем разрушился, а в Московском теснота была так велика, что на одной кровати помещалось по два больных или на двух кроватях по трое больных.
К числу госпиталей могут быть также причислены и открытые Екатериной II в Петербурге и Москве воспитательные дома, эти прообразы современных учреждений по охране материнства и младенчества. Первая мысль об открытии воспитательных домов в России принадлежит известному государственному деятелю Екатерининской эпохи И. И. Бецкому (1704-1795)[*]. В докладе императрице он представил проект и план воспитательного дома в Москве и госпиталя для бедных родильниц. Открытие этого воспитательного дома последовало в 1764 г. (рис. 22). Через шесть лет по инициативе того же Бецкого был устроен воспитательный дом в Петербурге при Смольном монастыре. Средства воспитательных домов составили частные пожертвования, а также доходы с игорных карт. Чтобы предотвратить бесчеловечное обращение с младенцами, за каждого принесенного ребенка выдавалось вознаграждение. Но как все учреждения этой эпохи, когда бюрократия и дворянство управляли страной, воспитательные дома далеко были не на высоте положения. Это явствует хотя бы из того, что в течение первых двенадцати лет по открытии воспитательного дома в Петербурге смертность детей в нем достигла 89 %.

Рис. 22. Воспитательный дом в Москве в начале XIX в. (иллюстрация из книги Губерта В., 1896)
Больничное призрение душевнобольных начинается у нас с конца XVIII в. Вначале помешанные содержались при полицейских домах. Но когда их накопилось так много, что содержание их стало обременительным, то в 1779 г. были открыты в Петербурге больница и «Долльгауз»[*] для душевнобольных, причем содержание последних было поручено петербургскому генерал-полицеймейстеру.
Оригинальным лечебным учреждением являлись в те времена также так называемые «бадерские бани». В 1728 г. некий Яков Кентер получил привилегию на открытие таковых бань «для лечения наружных болезней мануальным художеством», т. е. гимнастикой, массажем, ваннами, клистирами и кровопусканием. По-видимому, это было что-то вроде средневековой цирюльни.
Обращаясь от медицины лечебной к санитарным мероприятиям, мы почти не замечаем на этом поприще каких-либо существенных достижений. Единственное, на чем мы можем остановить свое внимание, — это тот упоминающийся в исторических документах факт, что при Петре I введен был надзор за пищевыми припасами. Но насколько достигал цели этот надзор, нам неизвестно. Зато усиленное внимание правительства и медицинского управления привлекали к себе эпидемические болезни. В этом отношении особенное значение имеют сифилис, оспа и чума.
Сифилис, как мы уже знаем, проник в Россию из Польши, и поэтому русские называли его польской болезнью. В XVIII в. он особенно распространился среди населения России, свив себе прочное гнездо среди аристократического офицерства гвардейских полков. С другой стороны, благодаря невежеству русской деревни он внеполовым путем распространялся среди русских крестьян, сделавшись там бытовым явлением. Русское правительство, как большинство и других правительств того времени, в борьбе с этой болезнью не было в состоянии уничтожить те социальные причины, которые порождают это великое зло, и ограничилось тем, чтобы обезопасить высшие классы общества, ведущие веселую и разгульную жизнь, от заражения этой инфекцией. Поэтому в 1763 г. был издан указ, по которому было предписано устроить особый дом для помещения женского отделения сифилитической больницы. Больные «французской» болезнью «бабы и девки» присылались сюда для лечения из острога и из полиции. Взамен этой сифилитической больницы в 1782 г. была открыта за Калинкиным мостом больница для «прилипчивых, секретных» болезней, каковая в 1802 г. была передана в приказ общественного призрения[*]. Нечего и говорить, что эти «сифилитические дома» нисколько не способствовали уменьшению этой социальной болезни.
Значительно более повезло в России борьбе с натуральной оспой. Эта болезнь, поражавшая в XVIII в. почти все страны Европы, не пощадила и России. Но нам в этом отношении повезло благодаря тому случайному обстоятельству, что в 1730 г., пятнадцати лет от роду, скончался от оспы император Петр II. В силу этого Медицинская канцелярия стала измышлять всевозможные способы борьбы с этой эпидемией. В 1741 г. она разослала циркуляр, чтобы все лица, у кого дома есть больные оспой, доносили бы о том Медицинской канцелярии. Кроме того, таким лицам в течение шести недель запрещалось ездить ко двору. За этими циркулярами в 1754 г. следовал новый циркуляр, по коему лица, у которых есть больные оспой, не имеют права ездить на дом к лейб-медикам, а последние не смели в свою очередь ездить к таким больным. Вместе с этим был назначен для лечения оспенных больных один доктор и два лекаря, которые должны были отказаться от всякой другой практики. Оспенные или сыпные доктора получали 600 рублей в год жалованья и 200 рублей на квартиру. Но домовладельцы до того побаивались этих докторов, что не пускали их к себе на квартиру. Наконец, в 1783 г. были основаны в Петербурге два «оспенных дома», где в широких размерах стала производиться прививка оспы [25].

Т. Димсдэль
В особенности замечателен в истории русской медицины 1768 г., как год введения оспопрививания в России. В этом году натуральная оспа так сильно распространилась по России, что из всего числа рождавшихся младенцев едва одна четвертая часть достигала совершеннолетия. Остальные же большею частью умирали от оспы. Несмотря на все предосторожности, оспа проникла ко двору, и жертвой ее сделалась одна из фрейлин. Тогда из Англии был выписан врач Томас Димсдэль, которому было предложено привить оспу русской императрице и наследнику престола. Почти два месяца медлил Димсдэль и производил какието опыты, ибо, как и большинство его современников, боялся привития оспенного яда человеку зрелых лет. Наконец, 11 октября, по назначению Димсдэля, Екатерина II приняла ртутный порошок, а на другой день в больницу явился нарочный с приказом привести больного, от которого можно было взять материю для привития оспы. Оспенная материя была взята Димсдэлем от семилетнего Александра Данилова Маркова, которому в награду за это было пожаловано дворянское звание и повелено называться Оспенным. После этого, испытав на себе действие оспенной материи, Екатерина убедила четырнадцатилетнего Павла Петровича привить оспу также и себе. Затем Екатерина и Павел позволили, чтобы от них была взята оспенная материя для привития других лиц. Этим надеялись уничтожить предрассудок, что будто бы тот, от кого берется лимфа, должен сам от этого погибнуть (рис. 23).

Рис. 23. Герб Александра Оспенного. На детской ручке, подающей розу, привитая оспа (иллюстрация из книги Губерта В., 1896)
В общем Димсдэль привил оспу 140 лицам. Из письма Екатерины к Вольтеру от 6/18 декабря 1768 г. видно, что в Петербурге в течение одного месяца оспа была привита большему числу лиц, чем в Вене в продолжение восьми месяцев. Вслед за тем был открыт дом для оспопрививания в Москве, впоследствии преобразованный в Екатерининскую больницу. Мало-помалу оспопрививание стало распространяться по всей России. В том же году Медицинская коллегия командировала врачей в разные губернские города для введения там оспопрививания [26]. В 1772 г. иркутский губернатор Бриль, в присутствии влиятельных туземцев бурят, велел привить оспу своим детям. Точно так же поступил в Барнауле командовавший войсками генерал-поручик А. А. Ирман, который при собрании старшин разных кочевых племен, имевших обыкновение бросать своих детей, когда их постигала оспа, приказал привить оспу на открытом воздухе своей единственной трехлетней дочери. После этого Димсдэль, уезжая за границу, издал краткое описание способов для распространения по всей России безопасного привития оспы.
Коровью оспу первым в России стал прививать Лев Львович Дебу (Louis de Desbout, 1746-1814), итальянец из Ливорно, а в 1802 г. доктор Франц Буттац (Franz Buttatz) был уже командирован во внутренние губернии России для прививок. Таким образом, оспопрививание в России было введено раньше, чем во многих других странах, но, к сожалению, не дало желательных результатов благодаря бюрократическому устройству медицинского управления [27].
Но еще более серьезное внимание властей привлекала чума, этот бич народный описываемой эпохи. Впервые появилась она в 1709 г. в Лифляндии, в 1718 г. она была уже в Малороссии, причем были устроены заставы, не пропускавшие никого в зараженную область. Для тех, кто прокрадется мимо застав, были установлены виселицы. В 1738 г. чума появилась в армии, действовавшей против турок, причем у Очакова от нее погибло 1700 человек. Для предотвращения заноса чумы в Россию был учрежден в Харькове карантинный пункт, которым управлял губернатор Трубецкой. Этот карантин просуществовал около года. Вновь карантин был учрежден через четыре года, когда в Константинополе обнаружилась «поветренно заразительная болезнь». Тогда на Украину был послан в распоряжение киевского генерал-губернатора доктор Иоганн Фабри (Johann Fabri, ?—1750) с двумя лекарями. Они должны были устроить на Васильковском форпосте главный карантин, в ведении которого находились другие более мелкие карантины. На карантине доктор свидетельствовал всех приезжающих и выдавал аттестаты о здоровье или болезни, без чего не пропускали в Россию. Обыкновенно карантины отдавались на откуп. «Карантинщик» получал за постой в карантине по одной деньге с лошади и по одной копейке с человека за ночь.
В 1770 г., во время турецкой войны, чума появилась в Молдавии и Валахии, откуда она перешла в соседние с нею польские провинции, а затем в Киев и Москву. В предупреждение заноса чумы в Москву был принят целый ряд мер. Уезды были разделены на участки, во главе которых были поставлены местные дворяне, долженствовавшие принимать всевозможные предосторожности против эпидемии. У застав были поставлены строгие караулы. В селения было предписано никого постороннего не впускать, а проезжающих окуривать и выпроваживать поспешно из селения. По дорогам из Турции и Польши были учреждены карантины. Однако так как карантины не соблюдались строго, то в декабре чума появилась в Москве. Занесена она была сюда с театра войны и впервые появилась среди служителей генерального сухопутного госпиталя, что на Введенских горах. Когда физикат[23] донес об этом главнокомандующему, тот приказал оцепить госпиталь. Доктор А. Ф. Шафонский (1740-1811), главный врач госпиталя, велел сжигать все подозрительное, но так как не было достаточной строгости, то в марте 1771 г. появилась вспышка чумы на Большом суконном дворе. Комиссии врачей, в составе Эразмуса, Скиадана, Погорецкого, Ягельского и Шафонского, было поручено обследовать причины этой вспышки. Комиссии удалось найти на платочной фабрике восемь трупов и 21 больного чумой. Тогда было решено всех живущих на суконной фабрике вывести за город и поместить в карантин, а суконный двор запереть и оставить с растворенными окнами, ничего не забирая оттуда.
Кроме того, въезд и выезд из Москвы были разрешены только через семь застав. Лица, отправлявшиеся по Петербургской дороге, должны были брать у генерала П. Д. Еропкина (1724-1805) свидетельство о том, что они не из зараженных домов, а товары, перевозимые ими, отправлены с фабрик, где нет чумы. Но рабочие, посаженные в карантин, вскоре бежали оттуда и разнесли заразу по всему городу. Уже в апреле умерло от чумы в Москве 778 человек, в мае число их достигло 878 человек, в июне — 1099, а в июле — 1708. В августе число умерших достигло внушительной цифры 7268 человек, а в сентябре уже 21401 человека. Власти и высшие классы населения покинули Москву. Войска были выведены в лагерь, и только помощник главнокомандующего, генерал-поручик Еропкин с 150 солдатами и двумя пушками остался на месте и поддерживал порядок в городе. Меж тем простой народ стал говорить, что свирепствующая болезнь — вовсе не чума, а горячка с пятнами, что лекаря морят народ в карантинах. Возмущение народа против врачей, духовенства и дворян все возрастало. Поэтому были закрыты все присутственные места, фабрики и магазины. Тогда народ, руководимый раскольниками и недовольный устройством карантинов, закрытием торговых бань и запрещением хоронить мертвых при церквах, возмутился. Все противочумные учреждения были уничтожены народом, и всякая врачебная деятельность прекращена. Низшее же духовенство, без разрешения своего начальства, устраивало ежедневные крестные ходы. Толпы народа днем и ночью стояли у Варварских ворот и служили молебны перед образом Божией Матери. Благодаря скоплению народа и тесному соприкосновению людей больных со здоровыми, чума распространялась еще более. Полиция приняла против этого энергичные меры и стала разгонять народ, а архиепископ Амвросий распорядился удалить священников, служивших молебны, икону же Богоматери перенести в другое место. Это еще более возмутило народ, и 15 сентября вспыхнул открытый мятеж. В одну ночь был разграблен Чудов монастырь. Мятежники ворвались в церковь, где в то время служили литургию, вытащили Амвросия за ограду и убили его. Затем было предположено перебить всех докторов, лекарей, а равно и начальников и затем разграбить Кремль. Но генерал Еропкин в течение одной ночи собрал все оставшиеся в Москве военные команды, запер в Кремле Вознесенские ворота, а у прочих ворот поставил войска с орудиями. Таким образом, все мятежники, находившиеся внутри Кремля, были пойманы. В это время вступил в город граф Г. Г. Орлов (1734-1783) с войсками и довершил усмирение мятежников. Чтобы понять причины этого бунта, надо принять во внимание, что 70-е гг. XVIII в. были эпохой, когда торговый капитал довел до неслыханных еще размеров эксплуатацию крестьянской массы, и когда на уральских заводах уже вспыхивали зловещие зарева надвигающегося огромного Пугачевского бунта. Московские чумные беспорядки, направлявшиеся против привилегированных классов, были, таким образом, только отдаленным отзвуком Пугачевского бунта.

Г. Г. Орлов Амвросий П. Д. Еропкин
По прибытии своем в Москву граф Орлов собрал врачей и потребовал от них ответа на следующие четыре вопроса: 1) точно ли свирепствующая в Москве болезнь есть чума; 2) через воздух или через прикосновение к больным и их вещам заражаются люди; 3) какие средства к предохранению от нее и 4) имеются ли средства к лечению зараженных чумой. На эти вопросы врачи ответили, что лучшими средствами для предохранения от чумы являются следующие: курение в домах и обмывание тела холодной водой или уксусом, далее, ношение рубашек, смоченных в соленой воде, чистый воздух, пища из овощей, а также мясная, по утру чарка водки и кусочек хлеба, окуривание порошком из серы, селитры и мирры, курение табаку, употребление бань и жевание ирного корня[*]. Особенно большое содействие Орлову оказал врач Густав Орреус (Orraeus, 1738-1811), первый, который получил степень доктора медицины в России. Он написал наставление, в котором кратко, но ясно излагает способы лечения больных чумою. Среди мер, применявшихся тогда, в ходу были кровопускания, рвотные и потогонные средства, а также втирания льда. Умерших от чумы вытаскивали из домов крючьями, а затем в помощь полиции были даны преступники, приговоренные на каторгу. На них надевали особое черное смоляное платье,
зашитое кругом, с отверстиями для глаз, рук и ноздрей. Благодаря всем этим мерам чума мало-помалу стала стихать. В общем она унесла 50 тысяч жертв. Из Москвы Орлов выехал 15 ноября. В Петербурге его встретили с триуфом. В его честь была выбита золотая медаль, а при въезде в Царское село воздвигнуты триумфальные мраморные ворота (рис. 24 и 25).
Из последующих чумных эпидемий примечательна еще вспышка чумы в Одессе в 1812 г. Отметим, что при этой эпидемии применяли с лечебными и профилактическими целями втирание теплого масла [28].

Рис. 24. Медаль «За избавление Москвы от язвы 1771 г.» в честь графа Г. Г. Орлова (иллюстрация из книги Будко А. А. с соавт., 2002)

Рис. 25. Орловские ворота в Царском селе (сегодня г. Пушкин). Слева — с картины неизвестного художника XIX в., справа — современный вид
В XIX в. на смену чуме явились холерные эпидемии. Особенно примечательна в этом отношении холерная эпидемия 1830 г. Проникшая из Оренбурга и Астрахани азиатская холера распространилась в этом году на юге России и в Поволжье. Для планомерной борьбы с ней была образована центральная комиссия по борьбе с холерой, направившаяся в Саратов. Во главе этой комиссии стоял Матвей Яковлевич Мудров, имевший для холеры 30-х гг. XIX в. то же значение, что Орреус для чумы 1770 г. В 1831 г. холера с ужасной силой стала свирепствовать в Петербурге. Быстрое ее развитие и значительное распространение навело панику на все население. Особенно много гибло лиц медицинского персонала. Правительство стало широко в разных местах устраивать холерные больницы. Но из-за народной темноты и пропасти, существовавшей между народом и интеллигенцией, все медицинские мероприятия наталкивались на сопротивление народа и приводили к мятежам и нападениям на больницы с целью освобождения больных [29].
Посмотрим теперь, насколько медицинская организация после Петровской эпохи оказала влияние на дальнейшее самостоятельное развитие русской медицинской мысли. Мы видели, что уже при Иване Грозном и Алексее Михайловиче были у нас наезжие иноземные врачи и их слабые русские выученики. Но так как не было объединяющего медицинского научного центра, то медицинские познания исчезали вместе со смертью их носителей, не прививаясь на русской почве. Лишь после Петра I, когда были основаны первые медицинские школы, были созданы благоприятные условия для возникновения медицины в России. Поэтому день основания первой медицинской школы, что произошло 25 мая 1706 г., является, в сущности, днем рождения русской медицины. Правда, еще в течение полутора столетий медицина у нас слепо следовала западноевропейским образцам, но это было исторически неизбежно, и лишь на почве, подготовленной подражательными течениями нашей медицины, могли впоследствии пышно развиться самобытные ростки русской медицины.

Ф. Рюиш
Пунктами, распространявшими вокруг себя веяние медицинской мысли, были госпитальные школы, Московский университет и Медико-хирургическая академия. Возникновение госпитальных школ относится к началу XVIII в. и связано с основанием первых госпиталей. Колыбелью русской медицины является построенный в 1706 г. за рекой Яузой московский «гофшпиталь для аптекарской науки», который одновременно был и первой медицинской школой в России, ибо при нем было организовано преподавание медицины. В некоторой степени Московский «гофшпиталь» обязан своим возникновением также тому обстоятельству, что сам император Петр I был дилетантом в области медицины. Отправившись в Голландию учиться наукам и ремеслам, он знакомился там также и с медициной, слушая лекции Бургава и Левенгука, у которого он, как диковинкой, любовался микроскопическим миром. В 1698 г. он посещал анатомический театр в Лейдене, а затем слушал лекции Ф. Рюиша (Ruysch, 1638-1731) в Амстердаме [30]. Во время второго своего путешествия за границу Петр купил за пятьсот тысяч флоринов у Рюиша его анатомический кабинет, который и передал Московскому «гофшпиталю». Между прочим, посетив в первый раз анатомический театр Рюиша, Петр Первый был поражен при виде забальзамированного трупа ребенка настолько, что с трудом удержался от того, чтобы не поцеловать его. Поэтому он попросил Рюиша сообщить ему его секрет бальзамирования трупов, что тот и сообщил Петру под секретом. Однако Петр секрет этот передал затем своему архиятеру Блюментросту. Но особенную склонность питал Петр к хирургии и даже имел обыкновение носить с собой вместе с математическими инструментами также и футляр с хирургическими инструментами, в состав которых входили два ланцета со шнепером[*] для кровопускания, анатомический нож, клещи для выдергивания зубов, лопаточка для растирания пластыря, зонд для ран и катетер. Он даже научился у своего придворного хирурга Тормонта вскрывать мертвые тела, делать разрезы, пускать кровь, перевязывать раны и выдергивать зубы (рис. 26). Особенно интересно то, что 27 апреля 1723 г. Петр I сделал сам, к удивлению окружающих врачей, на жене купца Берета «брюшную операцию»: разрезал стенку полости живота и выпустил жидкость [31]. При такой склонности царя к медицине и понимании ее значения для страны ничего нет удивительного в том, что Петр много содействовал насаждению медицины в России. Однако не следует переоценивать его значения для русской медицины. Если бы реальные потребности государства не вызвали к жизни этой потребности, то при всей личной склонности к врачебному искусству Петр все же не мог бы ничего создать. Как бы то ни было, он дважды выписывал врачей из-за границы и, наконец, решил основать в России самостоятельную медицинскую школу и издал указ «набрать из иностранцев и из русских изо всяких чинов людей для аптекарской науки 50 человек», каковые были отосланы в распоряжение главного врача военного госпиталя, доктора Николая Бидлоо.
Таким образом, систематическое преподавание медицины в России началось в начале XVIII в. Ставший во главе училища голландец Николай Бидлоо оказался в высокой степени преданным своему делу человеком, посвятившим госпиталю и училищу всю свою жизнь.

Рис. 26. Петр I перевязывает раненого под Азовом. Бумага, акварель. Художник В. И. Передерей. Картина отражает реальное событие (иллюстрация из книги Будко А. А. и др., 2002)
Из его школы вышло много русских врачей, рассеявшихся по всей территории нашей страны и применявших затем на деле приобретенные в школе познания. Поэтому Бидлоо с полным правом может считаться родоначальником русской медицины. Николай Бидлоо, сын голландского анатома, прибыв в Россию из Лейдена, сначала был лейб-медиком Петра I, причем в этой должности ему часто приходилось сопровождать императора в походах. Тяготясь своим положением, он просил Петра освободить его от своих обязанностей. Петр исполнил его просьбу и спросил, куда его назначить, на что Бидлоо ответил, что пока нет у него госпиталя, ему нечего делать. Когда же был основан Московский госпиталь, Петр поручил ему устройство школы при нем, и Бидлоо с жаром принялся за дело. Он сумел приобрести расположение Синода, в ведении которого был госпиталь, и пользовался таким доверием, что не получал отказа ни на одну просьбу. Его уму, настойчивости и терпению московская школа обязана теми материальными ресурсами, какие были в ее распоряжении во время Бидлоо. Пожалуй, можно даже сказать, что время, прошедшее от основания госпиталя до смерти Бидлоо, скончавшегося в 1735 г., было вместе с тем и периодом высшего расцвета московской медицинской школы. Первой заботой Бидлоо было обеспечить медицинскую школу учащимися. Но так как преподавателями училища были иностранцы, то преподавание могло вестись или на иностранном языке, преимущественно на голландском, или на латинском, которым в то время врачи должны были обязательно владеть. Сначала комплект учащихся пополнялся иностранцами, но, ввиду того что последних было мало для заполнения школы, Бидлоо предложил привлечь в медицинскую школу учащихся из духовных славяно-греко-латинских школ. Ученики размещались во втором этаже главного здания госпиталя в 32 светлицах, называвшихся бурсами. Получали ученики 24 рубля жалованья в год, и кроме того, сукно неодинакового качества, в зависимости от успехов. Питались ученики госпитальной пищей, которая была очень плоха. Наконец, ученики пожаловались, и тогда при госпитале был устроен особый трактир для учеников, организация коего была поручена некоей Барбаре Тильк. Структура школы несколько напоминала собою устройство западноевропейских университетов, и по образцу последних, члены школы делились на учеников, подлекарей и лекарей. Ученик, пробыв в школе определенное число лет и выдержав экзамен, производился в подлекари и получал прибавку жалованья. После этого он продолжал учение до тех пор, пока не приобретет достаточно знаний и опыта для практики. Однако со времени архиятера Фишера подлекарей стали посылать в полки. Кроме учеников и подлекарей в состав учащихся входили еще «волонтеры», которые отличались тем, что не получали жалованья. Учение продолжалось от 5 до 7 и даже до 10 лет.
Бидлоо добивался того, чтобы кончающие лекаря «искусно учинены были», и стремился доучить каждого учащегося, индивидуально его приготовляя и не щадя для этого времени. Госпитальные ученики заменяли в госпитале также и фельдшеров и вступали в эти обязанности с самого дня своего поступления в школу. Все распоряжения врачей выполнялись учениками и подлекарями. Они же производили малые операции и обязаны были присутствовать при «визитациях» и нести дежурства. Но при таком обилии занятий и обязанностей страдало дело учения, и потому впоследствии при архиятере Лестоке решили привлечь в госпиталь для исполнения ученических обязанностей учеников из солдатских детей, умеющих читать и писать, с тем чтобы они «упражнялись в надзирании больных» и учились подлекарскому искусству, после чего они должны были определяться в полки. Это были первые фельдшера. Они получали в год 6 рублей жалованья с провиантом, и кроме того ежедневно чарку водки и кружку пива.
Обставлено было училище далеко не блестяще. При его открытии не было не только ни одного полного скелета, но даже ни одной кости для обучения остеологии. Обучение хирургии лежало на самом Бидлоо, а его помощник, лекарь Андрей Репкен, должен был обучать «учреждению бандажей», т. е. десмургии, и в то же время был прозектором, препаратором, ординатором госпиталя, репетитором всех специальных медицинских предметов и главным помощником доктора. Хирургические операции производились и на живых людях в госпитале, и на трупах в анатомическом театре. Обучение же накладыванию повязок производилось как на людях, так и на фантомах. Производству операций предшествовало разъяснение болезни и установление хирургических показаний. Между операциями особенно часто производилось «черепосверление», т. е. трепанация черепа. Имели место также и клинические обходы больных в сопровождении учеников, причем делался осмотр и расспросы больных. Но недостаточность больных в госпитале значительно затрудняла приготовление лекарей. Единственным источником знаний для учеников были продиктованные преподавателем лекции, «лекционы», которые диктовались из книги, записывались учениками и выучивались наизусть. Книг почти не было, а бумага тоже была дорога, так что приобретение ее для небогатых учеников школы было почти недоступно. Вместо карандашей служили свинцовые палочки, вытянутые из расплющенной дроби. Вместо того, были в ходу гусиные перья, которые ученики собирали сами каждое лето по берегам прудов, где разгуливали целые стада линяющих гусей.
Предметами преподавания были анатомия, хирургия и аптекарская наука. Анатомия преподавалась по атласу, привезенному Бидлоо из Голландии. Но кроме того, нередко в госпиталь для изучения анатомии доставлялись трупы «подлых людей», поднятые на улице. Изучение аптекарской науки происходило в «аптекарских огородах», где ученики знакомились с приготовлением галеновских препаратов. Кроме того, нередко предпринимались экскурсии за город для собирания лекарственных растений. Ясно, что учение не могло не идти медленно. Но несмотря на бедность, постановка учения во времена Бидлоо была правильная. Он не давил учеников авторитетом своего ума и учености и учил их всему, что было для них необходимо, предоставляя в то же время им возможность учиться самим. Но большинство учащихся составляли молодые люди, веселого и беззаботного образа жизни. Поэтому лекции посещались ими неаккуратно. Нравы учеников были грубы, буйны, хотя и безобидны, и за проступки их не скупились наказывать. Приходилось силой заставлять учиться, и многие из-за сурового режима бежали из школы. В 1712 г. Бидлоо писал Петру: «Взял в разных городах 50 человек до науки хирургической, которых 33 осталось, 6 умерло, 8 сбежали, 2 по указу взяты в школы, а один за невоздержание отдан в солдаты». Тем не менее Бидлоо никогда не прибегал к телесным наказаниям учеников.
Совершенно изменилось дело после смерти Бидлоо, когда на его место был назначен доктор при главной Московской аптеке, Антон де Тейльс. В то время как Бидлоо был не только анатом, но и знаменитый хирург и пользовался большим уважением как у Синода, так и среди своих учеников, де Тейльс очутился совершенно в другом положении. Еще при жизни Бидлоо он собирал вокруг себя иностранцев и через них распространял укоры и порицания на Бидлоо и его школу. Ни госпиталь, ни школа, мол, не нужны, ибо никогда не научат тому, чему научаются за границей. Когда Бидлоо умер, де Тейльс произвел в училище большие беспорядки, наказывал «батогами», сек, отправлял в солдаты учеников и упражнялся в жестокостях и своеволии. Грубые распорядки, введенные им в госпитале, мелочные придирки к шалостям учеников разошлись по Москве и сразу отняли у учащейся молодежи всякую охоту к поступлению в госпитальную школу. Разочаровавшись в своем ставленнике, архиятер Фишер устранил де Тейльса от управления госпиталем и назначил на его место брата архиятера Иоганна Блюментроста, Лаврентия Блюментроста (1692-1755), бывшего прежде президентом Академии наук, а впоследствии первым куратором Московского университета. Благодаря Блюментросту госпитальная школа благополучно вышла из того переходного периода, когда она была близка к погибели. Но в это же время народились новые соперники московской госпитальной школы. В Петербурге в 1735 г. были основаны два госпиталя, сухопутный и морской, со школами при них, а также и госпиталь в Кронштадте. Эти госпитальные школы стали соперничать с московской и вскоре затмили своей славой старую колыбель русской медицины. Но в то время как в Москве большинство учащихся комплектовалось из русских людей и преподавание там происходило на латинском языке, в Петербурге большинство учащихся было иностранцы и преподавание там происходило на немецком языке. Надо вспомнить, что это было время, когда в русской жизни начала уже сказываться дворянская реакция, направленная против интересов русской буржуазии. Еще де Тейльс был представителем этой «немецкой» партии, шедшей рука об руку с русским дворянством. В дальнейшем влияние этой партии еще более усиливается и особенно заметно в период времени от Екатерины II до Николая I.
Однако время управления де Тейльса госпитальной школой в Москве не прошло бесследно для нее, и с этих пор все более обострялись отношения между Синодом и Медицинской канцелярией из-за общего управления и контроля над госпиталем. Когда же Фишер, желая объединить все госпитальные школы, вздумал подчинить их Медицинской канцелярии, не исключая и Московской школы, то Синод стал отказывать давать воспитанников славяно-греко-латинских школ в Медицинские школы. Архи- ятеру Лестоку, однако, удалось исходатайствовать у Синода, что он по крайней мере будет отпускать в школы учеников из всех сословий, кроме детей священников. В связи с этим в госпиталях были введены должности «студиозусов», т. е. преподавателей латинского языка. Тем не менее этим вопрос о комплектовании учеников еще не был решен. В особенности в критическом положении очутились петербургские школы, с которыми повторилось то же, что раньше с Московской школой. Количество учеников-иностранцев в них было невелико, так что в то время как в Москве число учащихся равнялось пятидесяти, в Петербурге не превосходило и двадцати. Поэтому в 1754 г. Кондоиди обратился в Синод с просьбой распубликовать по семинариям, не желает ли кто из их воспитанников поступить в госпитальные школы. Желающие нашлись в большом количестве. На сделанную Синодом публикацию Тимофей, митрополит Киевский, и Иоанн, епископ Переяславский, ответили, что хотя желающих много, но они так бедны, что не имеют средств на проезд. Тогда Кондоиди выхлопотал для них также право бесплатного проезда, и этим была решена одна сторона вопроса, ставшая особенно важной после того, как школы перешли в ведение Военного ведомства. Но Кондоиди пришлось также произвести коренную реформу всего медицинского образования. Упадок нравов наблюдался в равной степени как среди учащихся, так и среди преподавателей, и кулачная расправа нередко разрешала различные недоразумения, возникавшие в школах. Интересен в этом отношении один случай, происшедший в 1743 г. В петербургском госпитале поссорились между собой два ученика, Парант и Тернер. Последний пожаловался на первого старшему лекарю госпиталя Риккерту. Лекарь хотел наказать виноватого ученика плетью, но тот был пьян и попрекнул Риккерта, будто тот за фальшивое увольнение в отпуск по болезни какого-то унтерофицера получил от него две головы сахару и пять рублей денег. Риккерт обиделся и потребовал удовлетворения. Тогда главный доктор госпиталя, Гриф, наказал обоих подравшихся, продержав их сутки под арестом. Вместе с тем началось следствие, во время которого свидетели отказались подтвердить показания Паранта. Тогда архиятер Лесток постановил: «означенного ученика Паранта „...за облыжные слова" на главного лекаря Риккерта о взятках бить при собрании учеников того госпиталя плетьми, дабы прочие таких дерзостей не чинили». Спустя некоторое время, лекарь Балк как-то попрекнул Паранта его прошлым и вызвал с его стороны ответ, который показался ему дерзким. Тогда, недолго думая, Балк влепил Паранту пощечину, да на него же пожаловался, и Паранта опять высекли.
Таким образом, когда Кондоиди стал во главе медицинского управления, ему пришлось поднять, с одной стороны, моральный уровень учеников, а с другой — повысить качество преподавателей. Прежде всего он предложил совершенно исключить из школ неуспешных и нерадивых учеников, вместо того чтобы наказывать их розгами, как то предлагала администрация госпиталей. Далее, он ввел экзамены в школах, установил сроки учения, положил начало клиническому учению, когда вместо пассивного записывания продиктованных доктором примечаний у постели больного и пассивного заучивания, ученики стали приучаться к собственным наблюдениям, причем впервые стали составлять о ходе болезни истории болезни. Во время Кондоиди вошла впервые в программу преподавания физиология, было введено преподавание акушерства, женских и детских болезней. Для этого из госпиталей подлекаря направлялись к докторам «бабичьего дела» слушать лекции и учиться акушерским операциям. Кстати, Медицинская канцелярия вменяла в обязанность докторам читать также лекции бабкам на русском языке. Но самым большим злом был недостаток учебников. Записанные под диктовку «лекционы» передавались от одного ученика другому за плату, причем при переписке их вкрадывались ошибки. Поэтому еще Фишер выписал в Петербург десять экземпляров некоторых учебников, среди коих были «Немецко-латинский лексикон» Кирша, «Анатомические таблицы» Кульма и «Хирургия» Гейстера. Недостаточность и дороговизна учебников заставила Фишера приступить к изданию «компендиумов», анатомического и ботанического, а с 40-х гг. XVIII в. стали уже появляться переводы на русский язык иностранных учебников. Кондоиди также заботился о снабжении школ учебными пособиями и, заключив с одним лейденским книгопродавцем договор, выписал оттуда книги Везалия, Бургава, Ван Свитена, Гейстера и других и распределил их по московской и петербургским школам. Кроме того, в 1754 г. он внес в Сенат предложение об устройстве публичной медицинской библиотеки. С этого же времени стали выписывать из-за границы медицинские журналы. В первую очередь был получен из Голландии «Journal des savants», а из Германии, из Лейпцига, «Commentaria de rebus in scientia naturali et medicina gestis».
Одновременно с этим Кондоиди, чтобы поднять уровень преподавателей, стремился поставить в наших школах дело так, чтобы преподавание в них не отставало от программы заграничных школ и чтобы устранить впредь необходимость выписывать лекарей из чужих стран. Он понимал, что энциклопедичность преподавания, что имело место до тех пор, равносильна плохому преподаванию. Поэтому вместо выписки учителей из-за границы Кондоиди решил посылать за границу собственных учителей. Так, в 1761 г. были посланы за границу девять человек, и с этих пор была установлена систематическая посылка молодых лекарей для усовершенствования в иностранные университеты, продолжавшаяся до Французской революции. Наконец, Кондоиди учредил при школах должности «младших докторов», или «доцентов».
Когда с воцарением Екатерины II была учреждена Медицинская коллегия, то в последней открылось широкое поле для борьбы между собою враждовавших партий, что не могло не отразиться на судьбе и медицинских школ. Стоявший во главе коллегии барон Черкасов всячески отстаивал их самостоятельность, желал дальнейшего их преуспевания, тогда как немецкая партия, руководимая Пеккеном, старалась изо всех сил задержать дальнейшее свободное развитие русской медицины. Вначале Черкасову удалось одержать несколько побед над своими противниками, но затем руководство медицинской частью переходит, особенно со времени Фитингофа, к «немецкой» партии. В 1764 г. Черкасову удалось добиться от коллегии признания равноправности русского и немецкого языка для преподавания медицины в России. За этой первой победой следовала вторая, которая, однако, далась Черкасову не так легко. В том же самом году коллегия получила право возведения в степень доктора медицины. В указе, вышедшем 9 июня 1764 г. и узаконивавшем это право, говорилось о ненадобности в России иностранных докторов и о замене их русскими кандидатами. Это до того раздражило членов коллегии, что они составили протест против указа и поднесли его императрице, прося об отмене указа. Та ответила, что члены коллегии могут поступать по собственному усмотрению, что было ими истолковано в смысле дозволения не исполнять указ. В следующем году врач Орреус, о котором мы уже упоминали, первый выдержал в России экзамен на высшую медицинскую степень. Однако члены коллегии задержали его диплом, и ему дважды приходилось жаловаться императрице, пока он не был восстановлен в своих правах. Зато немецкой партии удалось одолеть своих противников впоследствии, когда Черкасов сошел со сцены и на его месте воцарился Фитингоф. Немецкой партии удалось уверить Екатерину, что неизвестно, скоро ли госпитальные школы будут в состоянии удовлетворять потребности государства, и что потому полезно завести школу, где на первом месте будет преподавание учения об электричестве, затем математики, физики, метафизики, логики, госпитальной клиники, акушерства и т. д. Им удалось также добиться того, чтобы преподавание там было на немецком языке и чтобы окончившим эту школу давались лучшие места. Это училище, открытое при Калинкинской больнице, не было подчинено Медицинской коллегии, и содержалось на средства, отпускаемые из сумм кабинета царицы.
Предполагалось, что в училище будут переходить те ученики, кто уже кончил госпитальный курс, для повторения и более широкого обучения. Однако Калинкинское училище не оправдало возлагавшихся на него надежд и было закрыто в 1802 г. Впрочем, госпитальные школы уже вообще больше не удовлетворяли потребностям времени. Войны Екатерины II, а также указ о назначении врачей в наместничества вызвал недостаток в лекарях. Тогда Медицинская коллегия представила в 1780 г. проект о преобразовании четырех госпитальных школ в три училища. Проект был передан в «комиссию об учреждении училищ», и в то же время были посланы за границу доктора Мартын Матвеевич Тереховский (1740-1796) и Александр Михайлович Шумлянский (1748-1795) «по делам основываемой здесь школы хирургической», причем им было поручено собрать сведения об организации высших медицинских училищ в Европе. Доклад коллегии, после их приезда, был утвержден в 1786 г. По этому закону школы были отделены от госпиталей и стали называться училищами, причем им было дано право «возводить в докторскую степень». С этих пор судьба медико-хирургических училищ развивалась независимо от судьбы «генеральных» госпиталей. Вскоре Петербургское училище было преобразовано в академию, а Московское, просуществовав некоторое время, слилось с медицинским факультетом университета (рис. 27).

Рис. 27. Здание Московского университета на Моховой
В истории русской медицины госпитальные школы сыграли чрезвычайно крупную роль. В ту эпоху, когда у нас не существовало высших учебных заведений, когда знания вообще с трудом прививались широким слоям русского народа, когда кругом шла ожесточенная борьба партий, они одни являлись у нас хранителями медицинской науки, не выпуская из рук светильника, зажженного в начале XVIII в. Н. Бидлоо. И лишь когда на русской почве вырос и окреп первый русский университет, московский, они с сознанием выполненного долга уступили место своему более достойному соседу. Открытие Московского университета произошло в 1755 г. в составе трех факультетов: юридического, медицинского и философского. Во главе университета находились два куратора, Шувалов и Лаврентий Блюментрост, а для подготовки молодежи для поступления в университет были учреждены две гимназии. Из этих гимназий одна была предназначена для дворян, а другая — для разночинцев. В этом факте находит свое отражение та социальная борьба, которая разыгрывалась между господствующими классами в ту эпоху, но впоследствии дворянское влияние берет перевес, и университет тогда превращается понемногу в школу для подготовки нужных бюрократическому государству чиновников. Однако, возникнув в силу настоятельной нужды русских промышленников в обученных специалистах своего дела, Московский университет волей-неволей давал общее образование своим слушателям, расширяя их кругозор и возбуждая критическую способность мысли. Так, понемногу Московский университет становился важным центром научной жизни, выразителем стремлений русского буржуазного общества. И эта живая струя пробивалась, несмотря на все рогатки, которые ставило самодержавное правительство между университетом и обществом. Стараясь обеспечить себе в питомцах университета верных слуг существующему порядку, государственная власть придала всему университетскому строю характер корпоративного устройства. Студенты жили в общежитии, причем на каждую камеру давалось в назидание три экземпляра Библии. Ходили студенты в мундирах зеленого цвета с красным воротником, обшлагами и подбивкой, причем они всегда были напудрены. На голове они носили шляпу, а сбоку у них красовалась шпага. Студенты и профессора подчинялись университетскому суду. Наказывали студентов отнятием шпаг, сажали на хлеб и воду, одевали в крестьянское платье. Судебные приговоры и акты писались всегда по латыни. Любопытно в этом отношении одно дело, где был замешан квасник. Суд, по-видимому, не знал, как перевести это слово по латыни, и передал его термином — cerevisiae secundariae coctor (второстепенный варщик пива).
На медицинском факультете при его открытии были три кафедры: химии, натуральной истории и анатомии с медицинской практикой. Первым преподавателем этих предметов был Иоганн Христиан Керштенс, который один олицетворял собою весь факультет. Но преподавание всех предметов происходило чисто умозрительным путем, ибо не было ни клиник, ни лабораторий. Только в конце XVIII в., в 1797 г., была открыта при московском военном госпитале постоянная клиническая палата, снабженная всеми необходимыми для преподавания принадлежностями, но она вмещала только 10 человек больных. Заведовал ею адъютант Мухин, а преподавал в ней лекции профессор диагностики и терапии Матвей Пеккен. В 1805 г. появился при университете «хирургический институт», т. е. хирургическая клиника на 15 кроватей. Но эти клинические палаты удовлетворяли далеко не всех потребностей преподавания, и в общем можно сказать, что высшее медицинское образование в старейшем русском университете в первое столетие его существования носило чисто теоретический характер. При изучении анатомии упражнений на трупах не требовалось. Операции на живых людях производились очень редко. Перед лекарским экзаменом нужно было только описать на бумаге какую-нибудь операцию на латинском языке. На лекциях по химии, при объяснении устройства термометра, чертили мелом на доске, между тем как некоторые слушатели даже не видали этого инструмента. Лекции еще в 20-х гг. XIX в. читались по руководствам 1750 г. Большая часть профессоров относилась к своему преподаванию, как к отбыванию чиновничьей повинности, без малейшей любви к излагаемому предмету, иногда даже внося в преподавание «комический элемент». Они более или менее аккуратно являлись на лекции и читали их по своим запискам, составленным лет десять, пятнадцать назад. Тем не менее медицинский факультет Московского университета, развивая в своих слушателях способность к спекулятивному мышлению, невольно внушал им любовь к науке и зажигал страсть к практической деятельности. В этом отношении большое значение имеет тот факт, что когда во вторую половину царствования Екатерины II в России взяла верх реакционная дворянская партия, то немногочисленная еще у нас интеллигенция стала сосредоточиваться около единственного тогда в России Московского университета. Во главе этих групп интеллигенции стоял выдающийся деятель той эпохи Н. И. Новиков (1744-1818), который сначала принимал участие в составлении нового уложения, издавал ряд журналов, в которых обличал слабые стороны русской жизни, особенно крепостное право, и много служил делу просвещения. Переехав в 1799 г. в Москву, Новиков примкнул к масонским ложам и проявлял здесь самую кипучую деятельность в пользу народного просвещения, открывал школы, издавал и распространял книги и периодические издания и, наконец, вместе с профессором Московского университета, Иоганном- Георгом Шварцем, основал «Дружеское ученое общество», имевшее в виду просветительные цели. Это общество, собирая вокруг себя передовых деятелей науки, способствовало тому, что сеяло вокруг себя страсть к науке и просвещению, несмотря на темные тучи, собиравшиеся на политическом горизонте России. Благотворное влияние этого общества испытал на себе и медицинский факультет: достаточно для этого указать хотя бы на профессора Мудрова, вышедшего из рядов масонских лож.
В таком положении застает медицину в России начало XIX в. Знаменитое обещание Александра I при своем воцарении, что он будет править «по законам и по сердцу бабки», произвело на общество магическое действие, и все господствующие классы объединились в общем радостном ожидании того, что после дней правления «воскреснет Екатерина из гроба в прекрасном юноше». Но вскоре оказалось, что слова манифеста понимались людьми различных партий весьма неодинаково. Старые деятели Екатерининской эпохи понимали их в том смысле, что все пойдет по старому: громы побед на морях и военных полях Европы, а у себя дома — привольная жизнь на плечах у дарового крепостного труда и незыблемость дарованных благородному дворянству вольностей. В противоположность этому представители тогдашней передовой России, различавшие в блестящей картине Екатерининской эпохи немало темных пятен, увидели в словах манифеста призыв к водворению в России царства законности и гражданского равноправия в духе теории екатерининской политики, провозглашенной императрицей в начале ее царствования в так называемом Большом Наказе. Либеральные начинания первой половины царствования Александра как будто оправдывали их ожидания. Расцветшая, благодаря континентальной блокаде, русская промышленность стремилась к полному развитию производительных сил страны, а вместе с тем и научных знаний в России. Этому соответствовал также и либеральный университетский устав 1805 г., которым на медицинском факультете устанавливалось шесть кафедр: 1) анатомии, физиологии и судебной медицины; 2) патологии, терапии и клиники; 3) врачебное веществословие, фармация и врачебная словесность; 4) хирургия; 5) повивальное искусство и 6) скотолечение.
Но не долго продолжалась эпоха экономического подъема, вызванная Тильзитским миром, не долго лелеяла интеллигенция в России свои розовые мечты. Русское дворянство, уже издавна привыкшее к произведениям английских фабрик, и стоявший за его спиной торговый капитал глухо ворчали, пока не добились разрыва с Францией. Над Россией стали собираться грозные тучи борьбы с Наполеоном. В самый разгар преобразовательных попыток во внутреннем управлении Россия была вынуждена открыто вступить в первую коалицию европейских держав против Наполеона, а с 1815 г., года основания Священного союза, начинается торжество реакции, направившей свои удары и против только что возникших новых очагов науки. И в то время как по уставу 1805 г. на университеты, помимо чисто практической задачи подготовления необходимых для государства чиновников, возлагались и более высокие научные функции, теперь, вместо свободы преподавания, вводится строгий контроль и регламентация. Идейными вдохновителями этого течения были знаменитые
Д. П. Рунич (1780-1860) и М. Л. Магницкий (1778-1855), из которых первый разгромил недавно основанный Петербургский, а второй — Казанский университеты. Так, согласно инструкции, данной Магницким ректору Казанского университета, профессора медицинского факультета должны были «принять все возможные меры, дабы отвратить то ослепление, которому многие из знатнейших медиков подверглись от удивления превосходству органов и законов животного тела нашего, впадая в гибельный материализм именно от того, что наиболее премудрость творца открывает». Подобные тенденции в связи с изгнанием лучших профессоров не могли не отразиться пагубным образом на научности и достоинстве преподавания. В той же Казани анатомические препараты даже хоронились с отпеванием на кладбищах, так что профессора анатомии были вынуждены читать свой предмет «на платках», т. е. привязывая один конец платка к одной кости, а другой — к другой, и уверяя, что это мускул. В результате за весь этот период в науке преобладает чисто описательное и узкосистематическое направление. Теперешнего подразделения на специальности не существовало, а клиники, которые только начинали учреждаться, не могли быть поставлены на надлежащую высоту ни в смысле обстановки, ни в смысле преподавательского персонала. Преподавание в клиниках обычно носило или отвлеченно-теоретический характер, или же сводилось к голому эмпиризму.
В эту эпоху разгрома высших школ Московский университет пострадал менее других. Быть может, этим он обязан тому обстоятельству, что во время нашествия Наполеона сгорели все университетские здания, так что ко времени подвигов Рунича и Магницкого Московский университет еще не совсем был отстроен и учебная жизнь не вполне в нем наладилась. Как бы то ни было, благодаря этому факту Московский университет вновь стал тем центром, где воспитывались и откуда рассеивались по стране новые кадры русской интеллигенции. Когда в 1825 г. погибла русская передовая революционная интеллигенция, то вслед за этой трагической гибелью декабристов наступила гнетущая эпоха царствования Николая I, когда, по словам князя Волконского, в России не было общества, а было народонаселение. Создав империю с огромной армией, казармами, шпицрутенами, рекрутчиной, преклонением перед военным мундиром, господством военщины везде и всюду, Николай I вооруженной рукой пролагал русской торговле пути на Восток. В угоду этой цели на русское общество была надета цепь молчания и покорности. Руководящими мотивами официальной государственности стали слова, сказанные А. X. Бенкендорфом (1783-1844) А. С. Пушкину по поводу его записки «О народном воспитании»: «Принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило, опасное для общественного спокойствия. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно». Само собой разумеется, как высоко могла стоять наука, если холопство предпочиталось просвещению. Попечитель Московского университета долго не мог «привыкнуть к тому беспорядку, что когда профессор болен, то и лекции нет». Он думал, что «следующий по очереди должен был его заменять». Все было регламентировано и подведено под шаблон, даже оказалось возможным циркулярно решать научные вопросы. Выражением этого направления внутренней политики явился новый университетский устав 1835 г., в значительной степени отменявший либеральный устав 1805 г. Но он не мог оказать уже своего губительного действия на науку, ибо теперь не существовало того равнодушия к ней русского общества, какое было во времена Рунича и Магницкого. Общество встрепенулось и шло впереди правительства, отдававшегося духу реакции.
Таким образом, на общем фоне эпохи «официального мещанства» на смену погибшей интеллигенции 20-х гг. стали выкристаллизовываться кадры новой народнической интеллигенции. Ее представители за промежуток времени с 1826-го по 1840 г. передумывают и переживают всю многообразную, умственную жизнь Запада, чтобы к 40-м гг. создать нечто собственное, самобытное. Начавшаяся с 1827 г., в целях подъема профессуры, посылка лучших студентов на усовершенствование сначала в Дерпт[*], а затем за границу содействует постепенному формированию у нас кадров ученых. Впрочем, сначала при выборе молодых людей, посылаемых по окончании университетского курса для приготовления к профессорской деятельности за границу, их подвергали предварительному испытанию, в целях выяснения состояния их легких, дыхательного горла, так как полагали, что «для профессора прежде всего необходимо иметь громкий голос и хорошие дыхательные органы». Тем не менее, начиная с 30-х гг., университеты в лице своих лучших профессоров становятся в известной мере сосредоточием и проводником умственного движения в России, и с кафедр впервые раздаются новые слова о русской науке, о русской медицине.
Сравнивая между собою госпитальные школы и Московский университет по их значению для русской медицины, мы должны сказать, что как первые, так и последние сыграли свою особую роль в истории нашей медицинской мысли. Не подлежит никакому сомнению, что вначале преимущество было на стороне госпитальных школ. Они подготовили кадры многих медицинских работников, приучая их к чисто практической деятельности. Московский же медицинский факультет центр тяжести видел не в практической деятельности, а в научном мышлении, и потому, нередко пренебрегая практическим преподаванием, впадал в пустую схоластику и спекулятивное умозрение. Но обе эти стороны медицинского образования были равно необходимы для подготовки научно-образованных врачей. Эта последняя задача была выполнена Медико-хирургической академией, воспользовавшейся опытом своих обоих предшественников.
Когда госпитальные школы были преобразованы в медико-хирургические училища, то с первых же шагов обнаружились недостатки преподавания в них. Для устранения их принят был ряд преобразований, были укомплектованы кафедры, учреждены должности адъюнктов и введено выборное начало. Работы по проведению реформы вновь возобновились вскоре после вступления на престол Павла I и благодаря деятельности президента Медицинской коллегии Васильева. Решено было преобразовать оба училища в высшие учебные заведения, и вследствие этого в 1798 г. был издан указ о преобразовании училищ в академии. Московская академия просуществовала некоторое время и затем слилась с Московским университетом, не сыграв заметной роли в истории русской медицины. Петербургская же Медико-хирургическая академия, открытая в 1799 г., вскоре поднялась до значения первого в стране медицинского центра. С начала своего существования академия находилась в ведении Медицинской коллегии и управлялась собранием профессоров. Но преподавание было слишком теоретично и неполно. Кроме анатомии и хирургии, студент едва ли мог применять свои знания на практике. Это объяснялось тем, что при академии не было клиник, с тех пор как госпитали отделились от училищ. Меж тем университетская реформа 1805 г. не могла не задеть и академии. В 1805 г. для полного преобразования всей постановки дела был приглашен знаменитый Иван Петрович Франк (1745-1821). Он впервые открыл при академии терапевтическою клинику. Но эта клиника просуществовала недолго и после Франка была переведена в военно-сухопутный госпиталь, причем были уничтожены женское и детское отделения. В своих слушателях Франк старался развить критический ум, устроил библиотеку при академии и получил в наследство от Медицинской коллегии все находившиеся при ней коллекции. Так, к академии отошел существовавший еще с петровских времен кабинет «Либеркиновых препаратов», а также собрание «монстров», со времен Петра I собиравшихся со всей России. Были введены вскрытия по хирургии и анатомии и был пополнен запас инструментов. С этой целью, между прочим, казенный инструментальный завод был тесно связан с академией и директором его был сделан профессор анатомии или хирургии. Однако Франк недолго пробыл в Медико-хирургической академии и в 1808 г. вышел в отставку.
На его место был назначен Яков Васильевич Виллие (1765-1854), один из известнейших в свое время хирургов в России. Он был приглашен из Шотландии в Россию в 1790 г. и скоро приобрел себе известность как хирург. В 1806 г. он был назначен главным медицинским инспектором и в этой должности много сделал для реорганизации преподавания медицины и всей постановки медицинского дела в России. Он организовал санитарную часть в армии, создал госпитальный устав, издал новую фармакопею. Будучи назначен президентом Медико-хирургической академии, он расширил ее научно-вспомогательные средства и объем преподавания. Со времени Виллие академия приобрела то значение научно-медицинского центра, которое она имеет и до сих пор[*].

Я. В. Виллие
В 1838 г. академия перешла в ведение Военного министерства, причем попечителем академии стал директор департамента военных поселений, генерал П. А. Клейнмихель (1793-1869). С переходом академии в Военное министерство Виллие оставил должность, а его место занял Шлегель, директор военных госпиталей в Риге и Москве. Но в это время на горизонте Медико-хирургической академии уже появился гений Пирогова, совершенно изменившего всю русскую медицину и вдохнувшего в нее живой дух.
Таким образом, мы видим, что медицина, пересаженная в начале XVIII в. на русскую почву голландцем Бидлоо, стала процветать в Московской госпитальной школе. Благодаря Кондоиди русская медицина укрепилась и в петербургских госпитальных школах, а Керштенс начал чтение медицины в Московском университете. Наконец, Франк и Виллие создали научный центр и в Петербургской медико-хирургической академии. Отсюда мы видим, что почти во всех научных центрах медицина в России была укреплена иностранцами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что за весь этот период русская медицина сохраняла подражательный характер, более или менее слепо следуя западноевропейским учителям. Чтобы уяснить себе развитие медицинских знаний в России за описываемый период, надо твердо помнить то, что медицина была пересажена с Запада на русскую почву в XVIII в., и что, во-вторых, экономические и социальные условия русской жизни в то время соответствовали социально-экономическим отношениям Западной Европы в XVI в. Отсюда следовало бы предположить, что медицинские знания, пересаженные на чуждую им почву, не привьются в России. Однако это оправдывается только отчасти. Европа XVIII в. была ареной, где достигли полного своего расцвета мануфактуры, и где уже намечался грядущий промышленный переворот, вызванный изобретением машин. Европа XVI в. была полем приложения сил недавно сбросившей оковы феодального строя торговой буржуазии. В таком же положении отчасти была и Россия в начале XVIII в. Но в то время как на Западе в период с XVI по XVIII в. буржуазия шаг за шагом отвоевывает власть и влияние у феодальных сословий, в России буржуазия должна была то и дело делать одну уступку за другой в пользу землевладельческого дворянства, теряя тем самым всякое влияние на ход развития Русского государства. Между медициной XVIII в. и медициной XVI в. видна такая же разница, как между общественным строем эпохи развитых мануфактур и эпохи торгового капитала. Но это различие не во всех областях медицины видно с одинаковой отчетливостью. Более всего оно проявляется на внутренней медицине и менее всего на хирургии. А если мы примем во внимание, что древо русской медицины было посажено у нас усилиями Бидлоо под знаком хирургии, то мы поймем, что судьбы заимствованной с Запада русской медицины были различны для хирургии и для терапии. То время, когда Бидлоо прививал на Московской земле плоды западноевропейской хирургии, было временем, когда во Франции начинало преобладать анатомическое направление в этой отрасли медицинских знаний, направление, завершенное деятельностью Дезо. Однако если мы сравним хирургию XVIII в. с хирургией XVI в., то мы в ней не увидим заметного прогресса. Если XVIII в. дал хирургии Дезо, то XVI в. дал ей Амбруаза Парэ, который явился пионером того анатомического метода в хирургии, который впоследствии завершил Дезо. Поэтому, в сущности, Дезо ничего нового не внес в хирургию, а только возобновил, реставрировал то, что было забыто со времен Парэ. А меж тем общее развитие Европы за это время далеко шагнуло вперед. Почему же хирургия словно застыла на месте? Причина этого вполне ясна. Мы знаем, что хирургия на Западе находилась вначале в руках невежественных цирюльников и банщиков, а дипломированные врачи гнушались заниматься ею. После реформы анатомии, совершенной Везалием, Амбруаз Парэ вздумал вырвать ее из рук цирюльников и основать ее на анатомическом базисе. Но после его смерти вновь возобновилась борьба между хирургами и докторами, забыты были результаты реформы Парэ, и хирургия вновь попала в руки эмпириков. Лишь впоследствии, когда хирурги добились уравнения в правах с докторами, когда им был открыт доступ в университеты, когда была основана хирургическая академия, эта отрасль медицины заняла подобающее ей место и пошла по пути, указанном еще в XVI в. гениальным Парэ. Теперь нам понятно, почему русская хирургия стала сразу в уровень с западноевропейской хирургией. Хирургия времен Дезо мало чем отличалась от времен Парэ, а Парэ жил почти в таких же условиях, в каких пришлось Бидлоо посадить ствол русской хирургии. Кроме того, русская медицина была основана у нас для военных целей, поэтому хирургия играла в ней доминирующую роль, и у нас не только не было борьбы между хирургами и докторами, но всякий доктор должен был быть хирургом. Поэтому русская хирургия, начиная с Бидлоо, прогрессивно развивается, пока в лице Пирогова не достигла зенита своей мощи и значения.
Совершенно в ином положении находилась внутренняя медицина. В XVI в. она находилась под свежим впечатлением ударов, нанесенных Парацельсом схоластической средневековой медицине, в результате которых внутренняя медицина стремится перестроить свои ряды на основе данных естествознания, физики и химии. В XVIII в. внутренняя медицина на Западе выдвинула такого корифея, как Бургав со своей школой. Меж тем разница между Бургавом и Парацельсом неизмеримо огромнее, чем между Дезо и Парэ. Поэтому и западноевропейская терапия XVIII в., перенесенная на русскую почву, не привилась там и только заворожила мысль русских врачей, которые, не будучи в состоянии органически переварить учение этого выдающегося клинициста, почти в течение более столетия слепо повторяли зады «по Бургавию», не внося в науку ничего своего оригинального. Для Европы, пришедшей от Парацельса к Бургаву, учение голландского клинициста явилось новой, прогрессивной формой медицинских знаний. Для России же, где медицина только зарождалась, учение «Бургавия» и его присных только тормозило свободное научное творчество, и должен был появиться спустя много времени наш русский Пара- цельс, который, подобно тому как в свое время его западноевропейский собрат сбросил с пьедестала прежде величественного кумира медицины, Галена, так же точно и он в России сбросил бы с пьедестала нашего русского кумира, «Бургавия». Но есть еще другое отличие между русской медициной XVIII в. и западноевропейской медициной XVI в. На Западе после революционного толчка, данного науке Парацельсом, в связи с новыми экономическими потребностями начинается эпоха зарождения точных наук. Галилео Галилей и Роберт Бойль кладут первые основы новой физики и химии. Вслед за этим Френсис Бэкон выступает с проповедью новой философии, индуктивного метода в науке. Для выполнения новых на- учно-познавательных задач основываются в передовых странах Европы, Италии и Англии, ассоциации мысли и труда, как например, Флорентийская академия и Лондонское королевское общество. Их деятельность не остается без влияния на медицину, которая с этих пор стремится стать отраслью естествознания. Открытие кровообращения Гарвеем, школы ятрофизиков и ятрохимиков были первыми этапами на этом пути. Нечто подобное этому мы видим и в России. Наряду с его реформами, направленными к экономическому подъему России, Петра I никогда не оставляла мысль о насаждении у нас ученой деятельности. К существовавшей тогда обязанности дворянства служить он прибавил еще одну обязанность, учиться, и даже издал указ, которым дворянам, не выучившимся грамоте, арифметике и геометрии, запрещалось жениться. Венцом всех этих попыток было учреждение в 1725 г. Академии наук. Но создать русской науки таким путем не удалось, ибо Россия тогда еще в значительной своей части жила в условиях натурального хозяйства и не нуждалась в успехах точных наук. Да кроме того, хотя среди академиков было немало выдающихся ученых, но все они, иностранцы по происхождению, образованию, языку, приглашенные в Россию только на определенный срок, оставались чуждыми ей во всех отношениях. Учрежденный при Академии наук академический Университет нередко совершенно не находил слушателей, и одно время приходилось даже выписывать студентов из Германии и самим профессорам посещать лекции друг друга. При таких условиях наша Академия наук не могла оказать заметного влияния на развитие русской науки, тем более что, в противоположность академиям Италии и Англии, она явилась результатом не самодеятельности русской буржуазии, а следствием политики бюрократической монархии и торгового капитала. Поэтому даже те немногие русские ученые, которые, несмотря на все неблагоприятные условия, все же вносили свою лепту в общую сокровищницу знаний, не могли оказать влияния ни на русскую науку, ни на русскую медицину.
Среди таких ученых на первый план должен быть поставлен Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765), много сделавший для популяризации науки в России и давший толчок к исследованию русской природы. Характерно то, что Ломоносов родился на далеком севере России, среди поморов, потомков граждан Великого Новгорода, поселившихся когда-то на берегах Северной Двины, по которой пролегал большой торговый путь. Таким образом, Ломоносов, хотя и происходил из крестьянского сословия, по своему воспитанию и взглядам должен быть рассматриваем как идеолог молодого промышленного класса России, стремившегося к точному знанию, к насаждению в стране естественных наук. С этой точки зрения станут нам понятны и постоянные столкновения Ломоносова в Академии наук с «немецкой» партией, за спиной которой стоял торговый капитал и дворянское землевладение. Но при слабости русского промышленного класса влияние Ломоносова на развитие русской науки не может быть ни в какой степени сравниваемо с влиянием на развитие естествознания Галилея и Роберта Бойля. Сам выдающийся физик и химик, во многом опередивший даже научные идеи Запада, Ломоносов у себя на родине не нашел отзвука, и только через сто лет, с появлением Зинина и Столетова, его заслуги были оценены по достоинству. Для нас Ломоносов ценен еще тем, что, кроме своих научных заслуг, он был у нас, подобно Френсису Бэкону, апологетом экспериментального метода. В своем предисловии к переведенной им «Экспериментальной физике» Христиана Вольфа Ломоносов указывает на быстрое развитие за последнее столетие естественных наук, явившееся следствием того, что ученые оставили философию Аристотеля и стали применять экспериментальный метод, всякое свое предположение проверяя путем опытов. Тем не менее пламенное слово Ломоносова осталось гласом вопиющего в пустыне. Точно так же не нашло оно отзвука и в русской медицине, хотя сам Ломоносов сознавал печальное состояние русской медицины и указывал тот путь, на который она должна стать. Его письмо к Шувалову от 1 ноября 1761 г., озаглавленное «О размножении и сохранении российского народа», показывающее удивительную разносторонность гения Ломоносова, полно глубоких мыслей и имеет еще поныне большое государственное значение. Основная цель, преследуемая Ломоносовым в этом письме, — благо русского народа, желание указать пути для достижения его счастья, причем он главным образом касается в этом письме вопросов народного здравоохранения. «Требуется, — писал он, — довольное число докторов, лекарей и аптек, удовольствованных лекарствами, чего не только нет и сотой доли, и от такого непризрения многие, кои могли бы жить, умирают». Тем не менее, несмотря на свои научные труды, невзирая на свою деятельность в пользу русского просвещения и на интерес к делам народного здравия, проповедь Ломоносова, этого русского отголоска Галилея, Бэкона и Бойля, не только прошла бесследно для русской науки, но не достигла также и медицинских кругов, которые по-прежнему оставались глухи к успехам экспериментального метода и слепо повторяли метафизические ухищрения недосягаемого «Бургавия». Все это было от того, что слаба была та социальная сила, которая нуждалась в развитии у нас естествознания и точных наук.
Подобно тому как в XVIII в. не удалось Ломоносову направить русскую медицину по физико-химическому руслу, так в начале XIX в. другому русскому естествоиспытателю не удалось направить ее по биологическому руслу. Мы имеем в виду основателя научной эмбриологии Карла Эрнеста Бэра (1792-1876), который хотя и не является русским по происхождению, но может быть причислен к русским ученым, ибо большая часть его деятельности протекала в России. Родился Бэр в России, в Эстляндии, и учился сначала в Дерптском университете, а затем в Германии, где в 1817 г. занял место прозектора анатомии в Кенигсберге. В 1829 г. он вернулся в Россию и был назначен членом Академии наук. Его знаменитое сочинение «История развития животных» появилось в 1828 г. Тщательным наблюдением всех отдельных явлений развития яйца животного Бэру удалось добиться первого связного представления всех тех удивительных превращений, которые имеют место во время развития тела позвоночного животного из простой яйцевой клетки. Стараясь осторожным сравнением явлений и глубоким размышлением познать причины этого превращения и свести их к общим законам развития, Бэр создал учение о зародышевых листках, из которых уже образуются ткани и органы. Он один из первых показывал у нас под микроскопом «ячейки», из которых построены животные ткани. Сочинения его отличаются философской глубиной и по своему ясному изложению настолько же привлекательны, как и общепонятны. В общем, Бэр как бы является продолжателем Биша: последний учил, что тело человека состоит из тканей и органов, а Бэр доказал, как эти ткани и органы развиваются из яйца. Однако по своему влиянию на развитие науки и медицины Биша и Бэр также не могут быть поставлены рядом, как не могут быть поставлены рядом Галилей и Ломоносов. Биша совершенно реформировал всю медицину и биологию в Западной Европе. Бэр в России оставался одинок, пока через полстолетия не нашлись у нас продолжатели его учения, в лице Бабухина, а затем и Мечникова. Поэтому в Западной Европе медицина под влиянием учения Биша быстро освобождается с помощью Клода Бернара и Иоганна Мюллера от всяких пережитков спекулятивных теорий и входит в русло естественных наук. Поэтому, с другой стороны, в России Бэр оставался непонятым большинством ученых и оказался не в состоянии сдвинуть русскую медицину с мертвой точки и освободить ее от рабского подражания Бургаву и другим европейским авторитетам. И причина этого вполне ясна. Европа в начале XIX в. испытывала медовый месяц своего экономического подъема после промышленного переворота, Россия же в это время испытала только мимолетный расцвет, вызванный континентальной блокадой и также быстро исчезнувший, как внезапно он появился.

К. Э. Бэр
Резюмируя все вышесказанное, мы видим, что в то время как хирургия у нас с начала XVIII до середины XIX в. непрерывно прогрессировала, идя нога в ногу с западноевропейской хирургией, внутренняя медицина, напротив, застыла в одних и тех же неподвижных формах, схоластически спекулируя учением Бургава и его школы и оставаясь глухой к успехам естественных наук.
После этой общей характеристики состояния русской медицины за описываемый период мы можем перейти к рассмотрению отдельных ее представителей. Мы видели, что колыбелью русской медицины была Московская госпитальная школа, а ее основоположником — Николай Бидлоо. Этот выдающийся голландский врач, около тридцати лет своей жизни отдавший служению любимому делу, создал вокруг себя почву, на которой могли произрастать и работать русские ученые. Первым достойным преемником Николая Бидлоо следует считать Константина Ивановича Щепина (1728-1800), преподававшего в Московском генеральном госпитале анатомию, физиологию, хирургию, фармакологию и ботанику и много потрудившегося над улучшением медицинского преподавания в России. Это был чрезвычайно даровитый человек, отличавшийся широтой образования и живым интересом ко всему. Оригинальный преподаватель, до фанатизма преданный своему делу, Щепин всегда рвался вперед, чтобы изучить то, что еще им не изучено. Уроженец города Вятки, он сначала воспитывался в местной семинарии, а затем в Киевской академии. Его талантливость вскоре привлекла к нему общее внимание, и в 1753 г. он был отправлен Академией наук за границу для изучения естественных наук. Пробыв там три года, Щепин приобрел репутацию ученого и даровитого человека, причем он пристрастился к медицине. Тогда медицинская канцелярия вздумала перенять его на свою службу и с помощью его ввести преподавание естественных наук в госпитальные школы. Договорившись об этом с академией, медицинская канцелярия, в лице Кондоиди, уведомила об этом Щепина и рекомендовала ему «стараться получить совершенство в медицине по всем частям ее и особенно в ботанике, химии, естественной истории вообще и в аптекарском искусстве, дабы докторский градус восприять мог, как скоро того удостоен будет». По защите диссертации в Лейдене Щепин едет в Париж, где изучает хирургию, знакомится с порядками тамошних госпиталей и аптек, а также изучает «рудокопное дело» (рис. 28). В 1759 г. Щепин возвращается в Россию и получает палату в петербургском генеральном сухопутном госпитале с разными больными. Однако Щепина влекла к себе полевая медицинская служба. Поэтому он обратился к медицинской канцелярии с просьбой определить его в армию. Желание Щепина увенчалось успехом, и он получил назначение на должность дивизионного врача Московской дивизии. Пробыв больше года в Пруссии в военно-походном госпитале, Щепин соскучился, наконец, и написал медицинской канцелярии рапорт с просьбой отозвать его из армии и назначить куда-либо преподавателем. Медицинская канцелярия и на этот раз не отказала в его просьбе и вскоре назначила его преподавателем в Московский госпиталь. Здесь он стал преподавать анатомию, физиологию и хирургию. Кроме того, в свободное время Щепин читал еще фармакологию (materia medica) и ботанику, причем для каждого предмета им была составлена особая подробная программа. Между прочим, Щепин первый стал знакомить своих учеников с естественными минеральными водами. Кроме того, он заботился об улучшении и расширении преподавания медицинских знаний, давая лекции по вечерам, чтобы не мешать другим занятиям, и первый возвысил голос об отмене в школе телесных наказаний. Но уже тут стал обнаруживаться у него хронический недуг, запойный алкоголизм, приведший его вскоре к бесславному концу. Пробыв два года в Москве, Щепин был переведен затем в Петербургский госпиталь, где у него в качестве помощника работал оператор Яков Меллен, который, будучи раньше прозектором, изготовил много препаратов для изучения учащимися анатомии. Заботясь о приведении в порядок преподавания, Щепин вместе с патологией читал также «клинические лекции» «по бургавьинскому». Однако запой у него развивался все больше и больше, и в 1766 г. «за беспрерывное пьянство» он был исключен со службы с лишением права врачебной практики в России. Так печально кончилась в самом расцвете сил деятельность на благо русской медицины этого выдающегося русского врача. Это был первый русский врач-естествоиспытатель, стоявший на уровне современных ему знаний. Подобно Ломоносову, его деятельность прошла бесследно для русской медицины. Голос первого не был услышан, деятельность второго была прервана в самом начале, благодаря несчастному стечению обстоятельств. Константин Иванович Щепин сошел со сцены, не успев сплотить вокруг себя учеников, не успев создать своей научной школы.
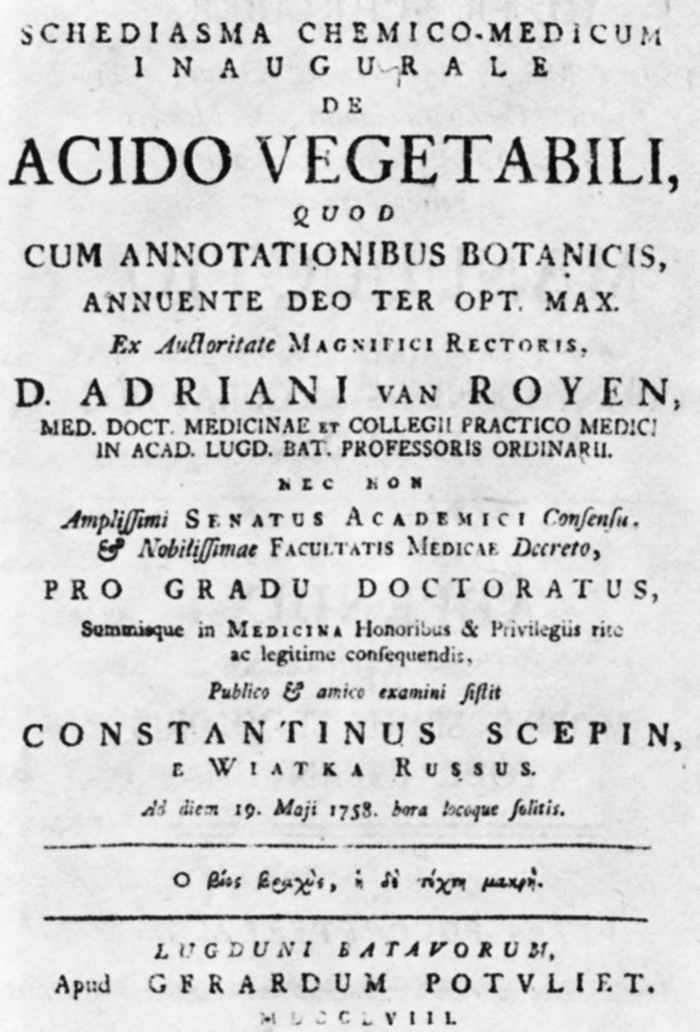
Рис. 28. Титульный лист докторской диссертации К. И. Щепина
Печальный конец первого природного русского преподавателя медицины послужил как бы началом агонии Московской госпитальной школы. Немецкая партия, видя, что из среды русского народа могут появляться талантливые ученые, и борясь за свои привилегии и влияние, начинает после Щепина борьбу против Московской госпитальной школы, где большинство учащихся были природные россияне. Эта борьба нашла свое выражение в инциденте с Петром Ивановичем Погорецким (1740-1780), другим талантливым преподавателем московской школы. Погорецкий принадлежал к числу тех девяти человек, которые, по мысли Кондоиди, были отправлены по окончании курса в петербургском госпитале в 1761 г. за границу, в Лейден, где он слушал лекции Гауба и Альбина. По возвращении в Россию этот талантливый врач был назначен в Московский генеральный госпиталь и здесь с юношеским жаром принялся за порученное ему дело. Прибыв в Москву, он прежде всего почел своим долгом донести Медицинской коллегии, в каком положении он нашел школу и что необходимо для дальнейшего ее преуспеяния. Между прочим, в этом донесении Подгорецкий указывал, что большинство немецких учеников школы не знают ни латинского, ни русского языков. В общем, в донесении Погорецкого о нуждах школы Медицинская коллегия увидала энергичный и сознательный шаг к расширению программы госпитального преподавания. Однако большая часть членов Медицинской коллегии не только не желала улучшения госпитальных порядков, но всячески противодействовала этому. Получив донесение Погорецкого, барон Черкасов поручил члену коллегии Пеккену рассмотреть донесение и дать о нем заключение. Пеккен потребовал, чтобы Погорецкий изъяснялся точнее, и кроме того сказал ему, что не следует вдаваться в излишние подробности, ибо «они для малознающих слушателей будут невразумительны». Однако это было только предлогом. В уме Пеккена и его товарищей уже зрела тогда мысль об основании исключительно немецкого высшего медицинского заведения и недоступного для русских молодых людей, что нашло свое осуществление в основании Калинкинского училища. Естественно, что успех этого нового учебного заведения был бы поставлен под сомнение, если бы рядом стала расширяться программа старых госпитальных школ. Поэтому коллегия не отвечала на донесения Погорецкого и только ждала случая совсем устранить его от преподавательской должности. Кроме того, и в Московском госпитале стали чинить Погорецкому разные неприятности. В конце концов, Погорецкий вышел из терпения и написал в коллегию, что если ему не хотят помочь, то пусть отправят его в другое место. Коллегия только этого и ждала. Погорецкого назначили доктором в Сибирский корпус, и с этого времени прекратилась учебная деятельность этого даровитого преподавателя.
После Погорецкого окончательно закатилась звезда московской школы, и в дальнейшем руководящее значение для русской медицины приобретает петербургская школа, особенно после того, как в ней появляется личность первого профессора хирургии Ивана Шрейбера (Johann Friedrich Schreiber, ?—1760). Последний, родом пруссак, был принят на русскую службу в 1731 г. на пять лет, но прослужил на различных административных должностях лет десять. Первым оценил его Кондоиди, который понял, что истинное призвание Шрейбе- ра — не администрация, а профессура. Указом медицинской канцелярии от 1742 г. Шрейбер, только что устроившийся штад-физиком в Москве, был назначен в петербургские школы для обучения учеников и подлекарей анатомии и хирургии. При определении на службу доктор Шрейбер получил титул «доктора и профессора», причем ему была дана особая инструкция, а вместе с тем право читать приватные уроки. Кроме того, оператору Якову Мел- лену было приказано препарировать для него и быть у него в повиновении. В указанной нами инструкции, составленной не без участия самого Шрейбера, хирургии отводилось почетное место бок о бок с анатомией. Профессор хирургии снабжался большими полномочиями, и всячески оберегался его престиж. Вся техническая часть была снята с профессора: не только препаровка, операции на трупах, но также операции и перевязки больных входили в обязанность помощников профессора. Вместе с этим в госпиталях были введены также клинические палаты. Отличаясь талантом, знаниями и уверенностью учителя, Шрейбер, с другой стороны, был высокомерен, неуживчив и капризен. Тем не менее он сыграл большую роль в истории госпитальных школ, и для петербургских госпиталей он сделал то же, что раньше сделал Бидлоо для Московского госпиталя. С этих пор медицина, и особенно хирургия, в петербургских школах достигли небывалой еще высоты, и эти традиции отчасти передались впоследствии и Медико-хирургической академии (рис. 29).
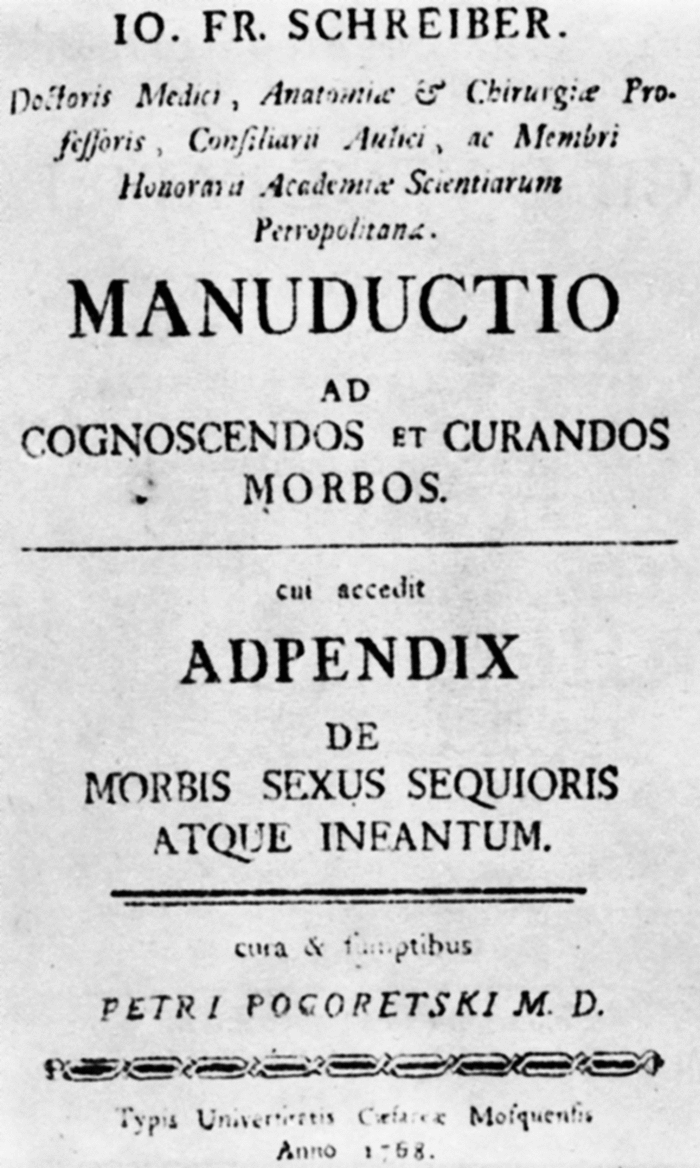
Рис. 29. Титульный лист руководства по хирургии И. Ф. Шрейбера для русских медико-хирургических школ (иллюстрация из книги Мирского М. Б., 1996)
К числу преподавателей петербургской школы отчасти должен быть также причислен доктор Иван Андреевич Полетика (1722-1783) , которому первому из природных русских выпала на долю честь быть профессором в иностранном университете. Родился Полетика в Малороссии и по окончании Киевской академии поехал в чужие края учиться медицине, и четыре года учился в Голштинии, в Кильской медицинской академии. Прибыв в 1750 г. в Петербург, Полетика подал прошение в медицинскую канцелярию с просьбой принять его в петербургский сухопутный госпиталь «слушать медицинские лекционы на своем коште», ибо за границей он остался «наукой недоволен». Просьба его была удовлетворена, но здешним учением Полетика остался еще менее доволен, чем в Киле, и опять уехал за границу и стал учиться сначала в Киле, а затем в Лейдене. В 1754 г. он в Лейдене получил докторский диплом, и в том же году он был избран Кильской медицинской академией в число своих профессоров, причем это избрание было утверждено герцогом Шлезвиг-Голштинским, впоследствии русским императором Петром III. Два года занимал Полетика профессорскую кафедру в Киле, но потом, соскучившись по родине, возвратился в Россию, и там был назначен в петербургский сухопутный госпиталь «доктором и профессором». Не поладив с инспектором госпиталя, он в 1763 г. был назначен в Васильковский карантин, где вышли у него споры с откупщиками и чиновниками. Полетика требовал, чтобы товары на карантине распаковывались и развешивались на воздухе. Чиновники же настаивали, что достаточно прикладывать печать к тюку, не распаковывая его. В результате чиновники донесли на Полетику, что он берет взятки. Полетика был отстранен, началось следствие, но ему удалось оправдаться.
По сравнению с госпитальными школами медицинский факультет Московского университета сначала играл лишь второстепенную роль в развитии русской медицины. Открывший факультет профессор Иоганн Христиан Керштенс, прибывший в Россию из Лейпцига, один олицетворял собою весь факультет. Он занимал одновременно три кафедры, химии, натуральной истории и анатомии с медицинской практикой, причем он одновременно состоял врачом университетской больницы. Основу его учения составляла, так же как и у его современника из Московской госпитальной школы Щепина, система Бургава. Однако на его лекциях «врачебного веществословия» уже тогда изредка проскальзывали зачатки патологической анатомии. Тем не менее этот иностранец, первый представлявший у нас медицину в старейшем русском университете, вряд ли был выдающимся представителем науки своего времени. Пробыв в России десять лет, он в течение этого времени, по свидетельству историка, «ознакомился весьма основательно с болезнями, свойственными русскому народу и климату, и применялся к местным средствам и обычаям в отношении лечения русских недугов». В 1769 г. он произнес речь на тему «Наставления и правила врачебные для деревенских жителей, служащие к умножению недовольного числа людей в России». В речи Керштенс обращает внимание на то обстоятельство, что в России умирает из общего числа родившихся младенцев одна четвертая часть. Из лекарственных веществ он хвалит народные средства, баню, простоквашу, квас с мятой и пищу из тертого хлеба. Для научно-образованного врача и профессора этого как будто бы немного мало!
С 1764 г. на медицинский факультет был приглашен Иоганн Генрих Эразмус, который считался одним из образованнейших врачей своего времени, и с этих пор стал читать в Московском университете анатомию, хирургию и повивальное искусство, тогда как на долю Керштенса было оставлено преподавание «врачебного веществословия». Таким образом, тогда наметилось в Московском университете разделение между хирургией и внутренней медициной. В своих речах Эразмус отстаивал достоинство медицинской науки и нападал на тех невежд, которые сравнивали анатомов с мясниками и живодерами.
В 1765 г. начал читать в Москве курс теоретической медицины Семен Герасимович Зыбелин, сам воспитанник Московского университета. Степень доктора медицины он получил в Лейдене и, вернувшись в Россию после пробной лекции на тему «Афоризмы Гиппократа», был назначен профессором. Так как в 1769 г. выбыл Эразмус, а в следующем году и Керштенс, то Зыбелину пришлось взять на себя также чтение анатомии, хирургии, а затем практической медицины и химии. Таким образом, наряду с двумя практическими кафедрами, терапией и хирургией, появилась третья, теоретическая медицина. Эта последняя постепенно стала доминировать над первыми, ибо преподавание клинических предметов также велось чисто теоретически. Ввиду этого, более подробное рассмотрение состояния преподавания «теоретической медицины» представляет особый интерес, тем более что оно оставалось неизменным со времени Зыбелина почти в течение полстолетия, с 1765-го по 1811 г. Приступив к преподаванию теоретической медицины, Зыбелин излагал ее в такой последовательности: сначала физиология с диэтетикой, потом патология с семиотикой и, наконец, общая терапия.
В своих воззрениях Зыбелин придерживался взглядов голландской клинической школы, следуя руководству одного из учеников Германа Бургава, Христиана Людвига, переведенному на русский язык в 1790 г. под названием «Пафология, или Полезные наставления о существе, причинах, припадках и знаках болезней, в человеческом теле случающихся». Основу учения Людвига составляло воззрение о том, что все болезни являются в результате неправильного смешения «земляных частиц», составляющих главное основание нашего тела.
Следуя этому учению, Зыбелин в своем «Слове о сложениях тела человеческого» объясняет состав крови, как и всех «происходящих из нее влажностей», смешением «воды, горючего существа (масла), соли и несколько земли». Вода, «остроты в себе никакой не имея, возбуждения в теле и особливой чувствительности произвести не в состоянии». Напротив, «горючее» или «масляное», соединяясь с солями, «удобно претворяется в разную остроту», а соли, «всякого рода остроту в себе заключая, и другим телам оную сообщают». В зависимости от того или иного смешения основных жидкостей, Зыбелин различал четыре человеческих темперамента: 1) флегматичный, склонный к «мокротным» и долговременным болезням; 2) холеричный, отличающийся такой же склонностью к скорым лихорадочным болезням и судорогам; 3) меланхоличный, с наклонностью к длительным лихорадкам и ипохондрии и 4) сангвиничный, представители коего долго могли бы жить, но невоздержание сокращает их жизнь. При болезнях вовлекается в процесс главным образом кровь, которая тогда становится расположенной к «порче» и «остроте с гнилью». Лихорадка есть следствие расширения твердых частей тела, волокон и каналов, от теплоты. В таком виде учение Бургава и его учеников, Гауба и Людвига, было пересажено на русскую почву с легкой руки Зыбелина, и с этих пор Лейден стал научной Меккой русских врачей, а Людвиг и Гауб — их земными богами. Пользы русской медицине почин Зыбелина не принес. Сам он, пользовавшийся большой известностью в свое время, как врач-практик, быть может, и был свободен от рабского подражания своим учителям. Но ученики и последователи Зыбелина, не отличавшиеся оригинальностью своего учителя, попали в плен к школе Бургава и не могли освободиться от этого очарования, пока новые условия русской жизни, наступившие в связи с Отечественной войной, не встряхнули до основания и мертвые устои русской медицины. Тем не менее мы не можем уменьшить значения Зыбелина для нашей медицины. Не говоря о том, что он хотел сроднить русскую медицину с западноевропейской, он, кроме того, много содействовал созданию правильного, ясного, точного и изящного языка для врачебной науки. Из современников Зыбелина можем назвать Федора Герасимовича Политковского (1753-1809), европейски образованного врача, преподававшего сначала естественную историю, а затем перешедшего на кафедру практической медицины. Ф. И. Барсук-Мойсеев, первый доктор медицины Московского университета, читал физиологию, патологию, терапию, семиотику и диэтетику. Наконец, Михаил Иванович Скиадан (Skiada, ?—1802) читал физиологию, патологию и общую терапию. При этом он первый стал читать физиологию не догматически, а пользуясь экспериментом.
Так продолжалось в Московском университете господство гуморальной патологии, пока в связи с Наполеоновскими войнами русские врачи не узнали, что, кроме голландской клинической школы, существуют и другие течения в медицине. Исколесив почти всю Европу, побывав в Германии и Франции, наши врачи привезли с собой на родину из первой страны идеалистическую натурфилософию Шеллинга, а из второй — учение Броуна с его «стениями» и «астениями». Эти новые учения понемногу поколебали авторитет Бургава и с течением времени расчистили путь для самостоятельного развития нашей медицины. Однако следует указать, что учение Броуна нашло приверженцев преимущественно в стенах Московского университета, тогда как вторжение философии Шеллинга в русскую медицину началось через Медико-хирургическую академию в Петербурге [32].
Завоевание броунизмом русской медицины началось в Московском университете благодаря выдающемуся нашему клиницисту первой половины XIX в., профессору Матвею Яковлевичу Мудрову (1776-1831). В истории медицины в России имя Мудрова составляет целую эпоху, дав нам особое поколение образованных и просвещенных врачей. Мудров принадлежал к тем замечательным русским людям ломоносовского типа, которые благодаря своим способностям и горячему влечению к знанию умели на своем жизненном пути преодолевать всякие препятствия и выйти на научную дорогу. Уже до 1812 г. он принадлежал к числу первых врачебных знаменитостей врачебного мира Москвы, как об этом упоминает Лев Толстой в «Войне и мире», а в 20-х гг. Мудров был едва ли не единственным исключением из профессоров, по отсутствию склонности к рутине и способности горячо увлекаться новыми течениями в науке.

М. Я. Мудров
Родился Мудров в Вологде, где отец его был священником девичьего монастыря. Детство и юность его прошли в суровой нужде. Первоначальное образование Мудров получил дома, а затем поступил в местную семинарию. Уже с юных лет он должен был сам добывать средства для покупки книг и тетрадей. Живой и одаренный от природы большими способностями, он сумел найти выход из тяжелого положения. Он стал ходить к переплетчику, отцу своих товарищей по детским играм, и присматривался к его ремеслу. Благодаря его смышлености, он скоро усвоил переплетное дело и стал им заниматься, что и давало ему некоторый заработок, который он тратил главным образом на покупку сальных свечей. При таком освещении, а иногда и при свете лучины он усердно занимался вечерами. По недостатку средств ему приходилось списывать печатные книги и тетради. Сделавшись старше, он стал давать уроки детям штаб-лекаря, получая за это один рубль в месяц, а иногда, в виде награды, поношенное платье. При такой суровой бедности в семье Мудрова были условия, которые оказывали благотворное влияние на его умственное развитие. Отец его, человек образованный и гуманный, интересовался светскими науками, и особенно медициной. Читая медицинские книги, он приобрел некоторые познания по медицине, что давало ему возможность помогать советами бедным
богомольцам, останавливающимся в Вологде по дороге в Соловецкий монастырь. Любя и уважая медицину, отец Мудрова желал поэтому, чтобы хотя один из его сыновей был врачем, и еще в детстве внушил своему младшему сыну, Матвею Яковлевичу, любовь к ней. Таким образом, уже в детстве Мудров приобрел склонность к медицине, и это стремление ко времени окончания курса в семинарии обратилось в твердое решение. Поэтому Мудров должен был сначала перейти в главное народное училище, затем преобразованное в гимназию, после чего, не имея никаких средств, отправился в Москву. Немногим мог снабдить его в дорогу отец: он подарил ему старый медный крест да старую чайную чашку без ручки и благословил, напутствуя словами: «Вот, друг мой, все, что могу тебе уделить. Ступай, учись, служи, сохраняй во всем порядок, будь прилежен к добрым делам». Запасшись рекомендательным письмом от местного штаб- лекаря к профессору Московского университета Францу Францевичу Керестури (1735-1811), Мудров, закинув за плечи котомку, отправился пешком в дальний путь. Благодаря содействию профессора Керестури, Мудров был принят в старший класс университетской гимназии, а затем в 1796 г. был переведен в университет.
Московский университет в то время, как мы уже видели, в научном отношении стоял невысоко. Центр тяжести всей учебной жизни его сосредоточивался в бывших при нем двух гимназиях. Сам же университет почти пустовал. Готовя молодых людей к службе, университет обучал их даже военным упражнениям: студенты исполняли роль ротных командиров и обучали учеников гимназий выправке, маршировке и ружейным приемам. Библиотека была «в скудном состоянии». Музеи и кабинеты были бедны вспомогательными средствами. Хирургические инструменты были выписаны еще в 1766 г. и с тех пор обветшали и сделались негодными. Клиник не было. Вообще, как писал первый попечитель университета, Муравьев: «медицинский факультет оставался без действия по малой склонности студентов к сему учению». Естественно, что при такой постановке дела университет не мог удовлетворять слушателей. Но при многих недостатках он все же оказывал некоторое воспитательное влияние на своих питомцев, и Мудров вынес из него достаточно знаний, любовь к медицине и стремление к дальнейшему усовершенствованию. Часто впоследствии вспоминал он с благодарностью Керестури, Зыбелина, Скиадана, Рихтера и Политковского, советы которых были для него «первой и лучшей школой и несравненно полезнее всех практических книг». За время пребывания своего в университете Мудров познакомился также с Новиковым, что, конечно, имело большое влияние на развитие его мировоззрения.
В 1801 г., по окончании университета, Мудров выехал в Петербург, где был прикомандирован к морскому госпиталю. Здесь он оставался полтора года, слушая в то же время лекции в Медико-хирургической академии у Загорского, Буша и Рингебройга. Сравнение их взглядов с взглядами московских профессоров вызвало в нем критическое отношение к наиболее распространенным тогда теориям. В середине 1802 г. Мудров был отправлен за границу с целью подготовки к кафедре. Здесь он отправился сначала в Лансгут, затем в Бамберг и остался равно недоволен как натурфилософией, которой тогда увлекались молодые умы, так и учением знаменитого Рошлауба. Свое внимание Мудров остановил на Гуфеланде, который в Берлине, «как маятник, колебался между различными системами», основывая свои взгляды только на наблюдении и опыте. Своими взглядами, своей личностью Гуфеланд несомненно имел большое влияние на Мудрова [33]. Кроме того, Мудров посетил еще Геттинген, Вену и Париж, где слушал Пинеля, причем все это время он изучал в равной степени хирургию, внутренние болезни, акушерство и глазные болезни. Отдаваясь всей душой изучению медицины, Мудров в то же время старался получить разностороннее образование, считая это необходимым для профессора. Уже в 1804 г. из-за границы он прислал в Московский университет диссертацию «De spontanea placentae solutione», за которую был удостоен степени доктора медицины. Еще за границей Мудров, как ученый, обрисовался вполне. Свою командировку он использовал так, что она могла служить образцом для других. Он счел своим долгом не только научно усовершенствоваться, но и ознакомиться с постановкой там врачебного дела и с местными медицинскими учреждениями, чтобы приобретенные по этому вопросу сведения впоследствии прилагать на родине. Он осмотрел не только все главнейшие клиники Германии, Австрии и Франции, но осматривал также и повивальные институты, приюты для подкидышей, оспенные дома, кладбища, знакомился также со способами очистки воды, с проветриванием палат, с питанием больных и вообще интересовался санитарными вопросами и медицинской полицией. Меж тем попечитель Московского университета, М. Н. Муравьев, задавшись целью поднять университет, и в частности медицинский факультет, обратился за содействием к профессорам и молодым ученым, в том числе и к Мудрову. Последний откликнулся на этот призыв и в чрезвычайно обстоятельном докладе изложил свои соображения, отличающиеся необыкновенной широтой взгляда. Подвергая строгой критике преподавание в России, Мудров указывал на необходимость соединения теории с практикой и особенно подчеркивал значение для клинического преподавания патологической анатомии.
Возвращаясь в 1807 г. из-за границы, Мудров по дороге встречал последствия войны с Наполеоном, — и он решил остаться в Вильне, где тогда находился главный госпиталь действующей армии. Деятельность в Вильне, продолжавшаяся около года, имела большое значение для Мудрова.
Здесь он хорошо ознакомился с некоторыми заразными болезнями и проверил на громадном материале свои теоретические взгляды. Здесь же он познакомился с известным профессором Виленского университета, Иозефом Франком (Joseph Frank, 1771-1842), сыном Ивана Петровича Франка, оказавшим на него известное влияние. Тут же Мудровым было издано первое руководство по военно-полевой хирургии. В 1808 г. Мудров вернулся в Москву и здесь, сознавая возобновление войны с Наполеоном, стал читать курс военной гигиены. Чтобы привлечь внимание широких слоев общества к делу улучшения санитарного состояния армии, он в 1809 г. на торжественном собрании произнес речь «О пользе и предметах военной гигиены», в которой высказывал впервые взгляд, что «задача полковых врачей — не столько лечить болезни, сколько предупреждать их; а наиболее учить солдат беречь свое здоровье». Когда в том же году вышел в отставку профессор Московского университета по кафедре патологии и терапии Политковский, то на его место был избран Мудров, и с этого времени начинается его кипучая деятельность в роли клинического профессора, продолжавшаяся свыше двадцати лет.
С первых своих шагов в Московском университете Мудров обратил на себя внимание своим организаторским талантом ив 1812 г. был избран деканом медицинского факультета. Перед занятием Москвы армией Наполеона был составлен комитет при участии Мудрова для выбора предметов, которые в первую очередь нужно было вывезти. Однако вывезти удалось немного, и 1 сентября Мудров вместе с ректором, профессорами, студентами и воспитанниками гимназии выехали в Нижний Новгород. Так как во время пожара Москвы сгорело большинство университетских зданий, то в 1813 г. был образован комитет для восстановления университета, куда вошел и Мудров. Благодаря энергии последнего 13 октября был восстановлен медицинский факультет и начались в нем учебные занятия. Было приступлено к сооружению нового главного корпуса университета, а также и нового анатомического театра, а затем и клинического института, сооружение которых было закончено в 1819-1820 гг. Организаторские способности Мудрова были использованы правительством и при появлении в России холеры, которая в 1830 г. распространилась на юге и в Поволжье, приняв характер большой пандемии. Для планомерной борьбы с ней была образована центральная комиссия, в состав которой был приглашен и Мудров. В начале сентября он вместе с комиссией направился в Саратов, причем по дороге напечатал «Краткое наставление, как предохранить себя от холеры». В следующем году, когда холера стала свирепствовать в Петербурге, к участию в борьбе с ней вновь был приглашен Мудров, приобретший опыт на Поволжье. Хотя он был еще вполне бодр и жизнедеятелен, но здоровье его было уже подорвано неутомимой тридцатилетней научной и общественной работой. Ему было поручено заведование двумя больницами, на Песках и у Калашниковской биржи. Всей душой отдался он тяжелому и ответственному делу. Но к сожалению, так энергично начавшаяся деятельность Мудрова в Петербурге скоро прекратилась. Он сам заразился вскоре холерой и 8 июля скончался.
В научных воззрениях М. Я. Мудрова можно различить два периода: до 1824 г. он был эклектиком, с преобладанием склонности к броунизму. Отдавая предпочтение то Франку, то Гуфеланду, Мудров пролагал себе особый путь, проявляя себя последователем гиппократовской медицины. Но с 1824 г. Мудров словно духовно переродился и превратился в убежденного последователя «физиологической медицины» Бруссэ [34]. Памятником деятельности Мудрова является переведенная им «Система практической врачебной науки» Гуфеланда, у которого идеи Броуна комбинируются с учением Бургава, причем «возбудимость» играет роль «жизненной силы». В первом томе этого труда находится изложение целительных сил природы, доказательством чему является существование различных методов лечения, приводящих к одному и тому же результату. Средства, которые пускаются в ход организмом для самоизлечения, суть отделения, критические извержения и воспаления. Причиной же самоврачевания природы являются симпатия частей, антагонизм и инстинкт.
С взглядами же самого Мудрова знакомит нас его речь «Слово о способе учить и учиться медицине практической». В этой замечательной для своего времени работе автор говорит, что врачевание состоит не в лечении болезни, не в лечении причин, а в лечении самого больного. Чтобы выполнить эту задачу, надо, во-первых, узнать самого больного, во-вторых, причины, воздействовавшие на тело, и, в-третьих, обнять весь круг болезни. Поэтому при лечении болезни прежде всего надо приступить к исследованию больного. Последнее должно начинаться с внешнего осмотра больного, затем его нервной системы, органов пищеварения, дыхания с помощью слуха, зрения и осязания. Однако из имеющихся в литературе источников нельзя видеть, как относился Мудров к выслушиванию и выстукиванию. Касаясь причин болезней, Мудров причисляет к ним голод, пьянство, обжорство, леность, напряжения умственные и телесные, простуду и наряду с этим также «поднебесные влияния, солнцестояния, изменения луны, испарения на суше и на водах». Таким образом, в этом вопросе Мудров отдавал дань своему времени. Но зато он был первым русским клиницистом, который устанавливал связь между клиникой и патологической анатомией, посещал вскрытия и сам нередко производил их, опережая в этом отношении большинство европейских клиницистов. Классификация болезней, которой придерживался Мудров, с современной нам точки зрения была весьма несовершенной. Он различал «четыре натуры болезней острых (воспалительную, простудную, желудочную и нервную) и восемь продолжительных (слабую, судорожную, ломотную, цинготную, золотушную, любострастную, затверделую и периодическую)» [35].
В деле лечения Мудров следовал рациональному способу, говоря, что надо лечить не болезнь, а больного, поступая так, дабы то, что для болезни вредно, было бы для больного полезно. Все лекарства действуют или материально, или динамически (возбуждая и ослабляя). Но какой бы способ он ни применял, он всегда строго сообразовался с особенностями данного случая и тщательно взвешивал все показания и противопоказания. Слабительных и рвотных он никогда не назначал так шаблонно, как другие. Особенно увлекался он, с тех пор как стал последователем Бруссэ, кровопусканиями. Но этот способ лечения, причинявший немало вреда больным, в руках Мудрова творил чуть ли не чудеса. Большой заслугой Мудрова было то, что он упростил терапию, выведя из практики употребление сложных лекарственных смесей. Охотно применял Мудров и физические способы лечения, особенно водолечение. Не переоценивая роли лекарств, он приписывал громадное значение обстановке больного и гигиеническим мерам. При заразных болезнях он назначал принятые тогда средства, но относясь к ним со скептицизмом, не признавал за ними значения средств, излечивающих болезнь. При тифе им применялись корень валерианы (radix Valerianae), потом serpentaria[*] и arnica[*], камфора (camphora), моксы (moschus), а когда все это не помогало (чувствуя в таких случаях свое бессилие) — Иверская Божия Матерь.
Оригинальный труд Мудрова заключается в собирании историй всех болезней больных, которых он пользовал в течение 22 лет. Преподавать он старался наглядно и значительно расширил и упорядочил практические занятия со студентами. В течение всей своей профессорской деятельности он стремился к тому, чтобы сделать своих учеников образованными врачами и вселить в них этические понятия. Преклоняясь перед гением Гиппократа и его нравственными взглядами, он поставил себе задачей перевести его на русский язык ив 1817 г. представил медицинскому факультету два перевода афоризмов Гиппократа.
Нельзя также не отметить той роли, которую играл Мудров в борьбе, имевшей целью освободить русскую медицину от опеки иностранцев и придать ей национальный характер. В связи с прекращением зависимости научных медицинских учреждений от бюрократической Медицинской коллегии, а также благодаря университетскому уставу 1805 г. и преобразованию Медико-хирургической академии, предоставлявшем этим учреждениям значительную автономию, создались благоприятные условия для развития русской науки. В особенности после 1812 г. в русской жизни наступил поворот к национальному сознанию, стремление к самобытности во всех областях. Вместе с этим возобновилась борьба против иностранцев, но теперь она уже была излишней, ибо русские промышленники, окрепшие после континентальной блокады, не боялись уже иностранной конкуренции и могли самостоятельно создавать свою как материальную, так и духовную культуру. Понимая это, Мудров не в борьбе с иностранцами видел средство придать русской науке самостоятельный характер. Питая до конца жизни глубокое уважение ко многим своим учителям - иностранцам, он стремился сообща с ними вести общее академическое дело, направленное к поднятию медицины в России.
Благодаря своему горячему стремлению высоко поднять образование и нравственный уровень русских врачей, Мудров имел большое влияние на молодежь. Его желанием было воплотить в студентах идеал Гиппократова врача, а молодежь, в свою очередь, ценила и любила своего учителя. Соединяя в себе талантливого ученого, во многом опередившего современников, блестящего организатора, поднявшего преподавание медицины на должную высоту, и авторитетного практического врача, профессор Мудров принадлежит к числу совершенно незаслуженно забытых в истории русской медицины личностей.

Е. О. Мухин
Желание Мудрова поднять образование русских врачей не осталось без отзвука. Соответственно этому, расширяется круг преподавания теоретических предметов на медицинском факультете, среди которого особенно выделяется преподавание физиологии. Одним из первых физиологов в Московском университете был профессор Иван Петрович Венсович (1769-1811), который с 1805 г. стал преподавать в Москве физиологию «по Блюменау», а анатомию и судебную медицину «по Пленку» [36]. Между прочим, он редактировал первый в России медицинский журнал «Труды общества соревнования врачебных и физических наук при Московском университете». Его сменил Ефрем Осипович Мухин (1766-1850), который читал физиологию, а именно, по руководству Ленгоссека на латинском языке с прибавлениями и комментариями самого Мухина. Но последний, в сущности, был отличным врачом-практиком, в области же физиологии являлся, по-видимому, самоучкой. Гораздо более значения имел Александр Матвеевич Филомафитский (1807-1849), который по окончании университета был послан для изучения физиологии в Дерптский профессорский институт, а затем за Гранину. По возвращении в Россию он был назначен профессором Московского университета по кафедре физиологии и общей патологии. Главным его трудом является появившийся в 1836 г. его «Курс физиологии», долгое время бывший одним из лучших руководств.
Благодаря такому расширению преподавания естественных наук среди ученых зреет мысль, что и медицина должна быть отраслью естествознания, а не простой эмпирией, каковой она была до тех пор. Таков, в особенности, был Устин Евдокимович Дядьковский (1784-1841), который усвоил себе всю важность применения общебиологических принципов к изучению и изложению медицинских наук, хотя и грешил в сторону умозрения. Заняв с 1831 г. кафедру частной патологии и терапии, Дядьковский, в противоположность своим предшественникам, читавшим свой предмет «по» какому-нибудь автору, первый стал развивать с кафедры свои собственные взгляды, призывая русских врачей к самобытности. Обладая громадной памятью, разносторонней эрудицией и умозрительным складом ума, Дядьковский отрешился от эмпиризма и задумал применить к изучению медицины общебиологические принципы, но при этом обнаружил большую склонность к «неотразимым силлогизмам» и прочим приемам схоластики. В своей диссертации он говорит, что разделение тел и сил на живые и мертвые не согласно с надлежащими воззрениями на вещи, что источник для объяснения всех тайн природы надо искать в материи, что сама материя жива и содержит в себе начало всех своих действий. В своей «Общей терапии» он указывает, что лечение должно быть рациональным, так как никакой целительной силы природы в человеческой натуре не имеется. Целительная сила природы одна и та же с болезнетворной причиной и есть не что иное, как свойство человеческого тела, а равно и прочих тел природы изменяться в своем составе и строении, отчего в одних случаях происходит улучшение, в других ухудшение отправлений. Болезнь, таким образом, есть уклонение телесной материи от нормы. Статьи Дядьковского о холере не утратили своего значения и до настоящего времени, а его «Systema morboram» представляет оригинальную классификацию болезней. Болезни, по взглядам Дядьковского, делятся на простые, или общепатологические, выражающиеся в виде припадков, и сложные, состоящие из соединения первых. Так как распознать болезнь можно, разложив ее на отдельные припадки, то лечение должно быть симптоматическим.
Близко к трудам Дядьковского стоят сочинения адъюнкта Лебедева, одновременно с Дядьковским читавшего в Московском университете общую патологию и терапию. Большой интерес представляет его «Общая антропопатология». В ней говорится, что жизнь есть движение животного вещества, для поддержания которого необходимы внешние влияния. Раздражительность есть химико-электрический процесс. Органы и ткани состоят из волокон, волокна из пучков, пучки из бляшек, бляшки из кристаллов в форме усеченных пирамид. Тело человека, прежде чем начинает жить, проходит все формы природы. Плод в утробе матери «по первоначальному соединению основных веществ его, кислотвора (кислорода), водотвора, углетвора и селитротвора (азота), совершенно нам неизвестному, в первое время своего бытия представляет каплю жидкости, которая по законам физическим пристает к стенкам матки, как постороннее тело, раздражает сосуды ее, отлагающие вследствие сего органическое вещество, и капля растет постепенно, как минерал». В следующем периоде развития животный организм представляет растение, а затем «из растения, имеющего вид червя, зародыш принимает форму человека». Таким образом, эти воззрения Лебедева рисуют картину, немного напоминающую знаменитый биогенетический закон Геккеля. Излагая сущность болезней, Лебедев в главе о воспалении трактует его, как «одинакового значения с процессом питания», состоящий в «раздражении какой-либо части и сильном стремлении крови в волосообразные артерии». Переход же в нагноение объясняется тем, что «скопившаяся кровь, изобилующая органическими окислами, которые должны были отделиться в виде парообразном из волосообразных артерий, посредством воспалительного процесса, подобного процессу кипения, как бы сваривается и превращается в особое вещество, гной».
Таким образом, в лице Дядьковского и Лебедева мы видим стремление отрешиться в медицине как от ненаучной эмпирии, так и от метафизических спекуляций, взамен чего делается попытка основать врачевание на биологической основе с явно заметным материалистическим уклоном. Если у этих ученых заметно влияние биологических наук на медицину, то вскоре стало заметно влияние на медицину и патологической анатомии. Занявший через десять лет после смерти Мудрова кафедру терапевтической клиники Александр Иванович Овер (1804-1864), знаменитый московский практик и человек с большими дарованиями, интересовался патологической анатомией, занимался патолого-анатомическими исследованиями и собирал материал для своего музея и атласа. Преподавание же велось в духе гуморального направления Рокитанского, причем воззрения этого ученого преподносились слушателям как окончательное слово науки, сомнение в коем было невозможно [37].
Зато уже вполне на уровне современной науки воззрения Григория Ивановича Сокольского (1807-1886). Его прекрасная подготовка, обширная эрудиция и основательное знакомство с западными течениями давали ему возможность вполне сознательно и осмотрительно разбираться в доктринах, выдвигавшихся представителями западной научно-медицинской мысли. Окончив в 1825 г. Московский университет, Сокольский был отправлен в Дерптский профессорский институт, а оттуда за границу, по возвращении откуда он был назначен в Москву профессором патологии и терапии. Его книга «Учение о грудных болезнях» с подробным изложением данных перкуссии и аускультации, является началом нового рационального направления в русской медицине. И это происходило в то время, когда адъюнкт Овера, Млодзеевский, относился с большим недоверием к постукиванию, а профессор Топоров не только называл шарлатанством перкуссию и аускультацию, но и публично издевался над новыми методами исследования посредством микроскопа и химического анализа. Взгляд Сокольского на болезнь также вполне гармонирует с современными понятиями; определяя болезнь как явление естественное, он и медицину относит к числу естественных наук. Задача врача состоит в выяснении всей картины болезни, в ее целом, путем сопоставления отдельных симптомов. Особенно восстает Сокольский против беспочвенного фантазирования и философствования, считая более всего необходимым для врача знакомство с химией и анатомией. Являясь учеником Биша, Леннека и Шенлей- на, Сокольский первый из русских врачей этой эпохи подходит уже к воззрениям Вирхова. Так, мало-помалу, со ступени на ступеньку поднималась юная русская медицинская наука, оперялась, оглядывалась вокруг себя, отряхивала с себя научную пыль веков, тяжелым балластом отягчавшую ее творческие плечи, и потом вдруг неожиданно, несказанно, к вящему удивлению Западной Европы, взмахнув своими могучими крылами, взнеслась над необъятными равнинами Восточной Европы, зычным голосом призывая озадаченных западных соседей идти вместе к единой общечеловеческой цели.
По сравнению с внутренней медициной, хирургия в Московском университете стояла гораздо ниже, и в этом отношении без боя уступала пальму первенства Петербургской медико-хирургической академии. Однако связь хирургии с анатомией, как нормальной, так и патологической, здесь тоже никогда не порывалась. Профессор хирургии Франц Францевич Керестури (Keresturi, 1735-1811), родом венгерец, наряду с физиологией, гистологией, судебной медициной, «бабичьим» искусством, преподавал также и анатомию, и при этом попутно «изыскивал анатомические причины болезей и смерти на кадаверах[*], на сей предмет присылаемых», т. е. наряду с нормальной анатомией делал экскурсии в области патологической. Профессор Федор Иванович Гильдебрандт, искусный и опытный практик, читал лекции по латыни, перефразируя свой краткий учебник, и не оказал сколько-нибудь заметного влияния на развитие русской хирургии. Более известен Вильгельм Михайлович Рихтер (1767-1822), открывший в 1806 г. в Москве новый повивальный институт. Культурным вкладом в нашу медицинскую литературу явилась его «История медицины в России».
Одним из последующих преподавателей был знаменитый Христиан Иванович Лодер (1753-1832), выдающаяся личность и европейская знаменитость. Он первый ввел наглядное и демонстративное преподавание, принеся с собой богатую коллекцию анатомических препаратов, среди коих были и из патологической анатомии. Из патологических препаратов много было ценных, а собрание болезненных костей было самое большое из всех известных в Европе и самое замечательное для знатоков.
Небольшой вклад в русскую хирургию сделал также знаменитый профессор 40-х гг. Федор Иванович Иноземцев (1802-1869). Сын пленного персиянина, он родился в Калужской губернии и в 1819 г. поступил в Харьковский университет казенным воспитанником на словесное отделение. С третьего курса был исключен и назначен учителем математики в одно из уездных училищ для отбывания учительской повинности за стипендию. Но в 1826 г. он снова поступает в Харьковский университет на второй курс медицинского факультета, который давно манил его к себе. Здесь большое влияние на него оказал профессор Еллинский, разрешивший ему произвести на живом человеке операцию отнятия голени. По окончании университета его отправляют для усовершенствования в профессорский институт в Дерпт, по возвращении откуда Иноземцев получает кафедру хирургии в Москве. Все свободное время он проводит в анатомическом театре, готовя к лекции препараты. Он впервые привил в Москве мысль о том, что хирургия должна быть основана на топографической анатомии. Курс практической хирургии, который он читал, разделялся на клинику, оперативную хирургию, хирургическую анатомию и десмургию. При распознавании болезней он принимал во внимание как объективные признаки, так называемый анатомический экзамен, так и субъективные, патологический экзамен. Но в истории науки Иноземцев не оставил никакого следа, ибо стоял далеко не на уровне современных ему знаний и фанатично следовал устаревшим взглядам школы солидарной патологии. Этот, по выражению Пирогова, фанатик различных предположений, считавший к тому же свой фанатизм медицинским рационализмом, сводил все к «genius morborum gangliosus». В своих «Основаниях патологии и терапии нервного тока», вышедших в 1863 г., он утверждал, ссылаясь на многочисленные патолого-гистологические исследования своих учеников, о существовании в осевых цилиндрах нервов особой полости, по коей якобы течет по всему телу «нервная жидкость», подобно тому, как кровь по сосудам.
По его взглядам, с 40-х гг. XIX в. изменился совершенно характер болезней. Тогда как раньше болезни носили преимущественно воспалительный характер и требовали для борьбы с ними кровопусканий и слабительных, теперь, по мнению Иноземцева, в болезнях преобладают явления раздражения симпатической нервной системы, выражающиеся почти исключительно катарами желудка. Соответственно этой перемене требовались и другие лекарства. Таким специфическим лекарством у Иноземцева была микстура из нашатыря с рвотным камнем, которая изготовлялась сиделками в больших количествах. Ее давали всем хирургическим больным до операции для устранения нервного раздражения симпатической нервной системы, а также после операции для предотвращения этого раздражения. И такие взгляды развивал Иноземцев в то время, когда рядом с ним уже работали Дядьковский и Сокольский. Любопытна историческая судьба этого, при всей его научной отсталости, все же талантливого хирурга-практика. Имя его известно многим русским врачам, но большинству из них оно известно лишь благодаря его противохолерным «Иноземцевым каплям». Даже многие иностранные историки медицины, уделяя Иноземцеву место среди известных русских клиницистов, помещают его в ряду терапевтов, а не хирургов. Тем не менее в глазах современников искусство Иноземцева в распознавании болезней и опытность его в производстве самых трудных хирургических операций доставили ему повсеместно самую громкую славу.
Однако в свое время Иноземцев служил одним из лучших украшений Московского университета. Но не научными заслугами, не как врач-практик выделялся он среди остальных профессоров медицинского факультета. Напротив, это был гуманный врач и человек, со светлым взглядом на науку и имевший на учеников своих неотразимое влияние. Это было время, когда Московский университет, ставший в центре русского общественного движения, находился на рубеже совершенно новой эпохи. Забитая после восстания декабристов общественная мысль незримыми ручейками стала вырываться на свет сквозь твердую кору николаевской жандармерии. Но, боясь открытых путей, она шла обходом, избрав себе руслом знамя философского романтизма. Уже в 20-х гг. сплотился в Москве около профессора М. Г. Павлова кружок русских шеллингианцев, принявший название «Общества любомудрия». Это общество было направлено главным образом против французской и английской философии, против рационализма, «эмпиризма» во всех их направлениях. Сыграв свою роль в истории русской общественности, «любомудры» сошли со сцены, уступив свое место поколению 30-40-х гг., которое вступало в жизнь с совершенно иными впечатлениями, чем предшествовавшее им. Стала намечаться разная перемена в профессуре и студенчестве. Вместо прежнего монотонного считывания со старых тетрадок, в незапамятные времена заготовленных и из года в год без малейших перемен повторяемых, с профессорской кафедры послышалось живое слово, стремившееся отразить веяния времени и удовлетворить нарождающейся потребности жизни. Наступала «весна» русской интеллигенции. Профессора, по словам Герцена, «принесли с собой горячую веру в науку и людей, они сохранили весь пыл юности, и кафедры для них были светлыми налоями[31], с которых они были призваны благовестить истину». Особое влияние на общество приобретает Герцен, в ряде блестящих статей протестующий против той науки, которая замыкается в себе и создает только цеховых ученых. Наука должна воздействовать на жизнь, должна идти навстречу назревающим вопросам современности. И как бы отвечая этому могучему призыву, возобновляется связь между профессурой и внеуниверситетскими кругами. И в то самое время, как в Московском университете гремел Грановский, на медицинском факультете из уст Иноземцева впервые раздались новые тогда слова о «русской медицине», о «русской науке». Реальным ответом на эти слова было основание вскоре «Московской медицинской газеты» и учреждение «Общества русских врачей» в Москве. С этой точки зрения, как идейный пионер в борьбе за национальную русскую медицину, важен для нас Иноземцев. Но сам он ничего не внес в сокровищницу русской медицины. То, о чем Иноземцев только говорил, то фактически сделали его современник, Пирогов, и его ученик, Боткин.
Что касается Петербургской медико-хирургической академии, то она в истории русской медицины играла в этот период роль, обратную той, какую играл Московский университет. Тогда как последний играл роль культурного и общественно-медицинского центра, академия была лишь исключительно центром научным. И тогда как Московский университет уже выдвинул целый ряд выдающихся деятелей медицины, каковы были Мудров, Дядьковский, Сокольский, академия в области внутренней медицины могла им противопоставить лишь одного Зейдлица. Одним из первых представителей кафедры патологии и терапии в Медико-хирургической академии был Ф. К. Уден, который, как и все его современники, придерживался учения Бургава и его школы. Ему принадлежит первая у нас попытка издавать медицинский журнал. Еще в 1792 г. он хотел издавать журнал под заглавием «Беседующие врачи, или Общеполезная врачебная переписка». Но Медицинская коллегия не позволила печатать журнала, ибо по ее рассмотрении было замечено «некоторое в оном отношение до веры и церковных обрядов», а именно в вопросах относительно различных родов пищи (постной и скоромной) в болезнях. Тогда Уден пригласил еще несколько врачей, запасся протекцией всесильного графа Зубова и, переменив заглавие, стал издавать журнал под заглавием «Петербургские врачебные ведомости».
Кроме непродолжительного пребывания в академии Ивана Франка, превосходным для своего времени клиницистом и образованным врачом был Ф. Ф. Гейрот (1776-1828). Несколько поколений врачей обязаны ему высоким уровнем медицинского образования и гуманным взглядом на назначение врача. В противоположность другим немецким врачам, он одинаково справедливо относился ко всем и поддерживал русских врачей. Славился также из практиков старого времени И. X. Рингебройг, профессор materiae medicae в Петербургской академии.
Новые веяния стали проникать в Медико-хирургическую академию, так же как и в Московский университет, в связи с Наполеоновскими войнами и знакомством русских врачей с медициной Германии и Франции, поколебавшим у нас авторитет Бургава. Так же как и в Москве, новые течения в медицине стали проникать к нам под флагом учения Джона Броуна. Но в то время как в Москве оно привело потом к господству системы Бруссэ, в Петербургской академии оно послужило мостом к восприятию натурфилософии Шеллинга. Первое знакомство России с немецкой идеалистической философией произошло в самом начале XIX в. Профессор патологии и физиологии Петербургской медико-хирургической академии Даниил Михайлович Велланский (1774-1847), посланный в 1802 г. за границу для научного усовершенствования, стал там последователем школы Джона Броуна, впоследствии внесшей в медицину основные принципы Шеллинговой философии природы. Сын кожевника из Черниговской губернии, по прозвищу Кавунник, Велланский впоследствии переменил фамилию. Уже в 1807 г. он представил диссертацию под названием «Dissertatio physicomedica de reformatione teoriae medicae», которая вызвала оживленный обмен мнений в конференции академии. Последняя, между прочим, указала, что автор сочинил диссертацию с намерением получить степень доктора философии и медицины, а потому «за лучшее признает не иметь участия в защищении такой диссертации», так как, по их мнению, «система Шеллинга бесполезна для врачебной науки». Несмотря на такой отзыв конференции академии, министр внутренних дел утвердил Веллан- ского в звании профессора. Вскоре затем, в 1812 г., Велланский выпустил в свет свой новый труд под названием «Биологическое исследование природы в творящем и творимом ее качестве, содержащее основные начертания всеобщей физиологии». В этом труде, будучи сторонником взглядов Шеллинга и Окена, Велланский выступил в качестве врага опыта в медицине, считая его грубым и недостойным философии. В общем, Веллан- ский преподавал физиологию по учебнику Прохаски, но считал, что «действия человеческого организма рассматриваются здесь не в надлежащем порядке, по которому следовало бы восходить от низших к высшим», ибо «человек составляет центр всей сферы органического мира, содержащегося в неорганическом, как внутреннее во внешнем». Во всяком случае, преподавание Велланского было мало полезно и слишком отвлеченно. Оно завлекало слушателей в область гипотез, не подтверждаемых фактами. Вел- ланский был как бы не на своем месте. Он был всецело поглощен философией и не признавал экспериментальных наук. Но он глубоко по своему времени знал естественные науки и умел горячим словом возбуждать в молодых людях охоту мыслить систематически. «Наука, — говорил он, — не в сборнике сведений, наблюдений, опытов, а в выводе из тех и других общих законов». Такое направление могло принести лишь вред научному развитию, и затормозило бы развитие русской науки, если бы удержалось у нас. Но тем большее влияние оказала книга Велланского на развитие философской и общественной мысли, и уже в 20-х гг. в Москве под влиянием его идей возник, как мы видели, кружок «любомудров». Что же касается собственно медицины, то, несмотря на отрицательное отношение Велланского к экспериментальному методу, заложенные в его учении глубокие философские истины, разрушая веру в авторитеты, вырабатывали самостоятельное свободное мировоззрение. Поэтому шеллингианская натурфилософия сыграла роль революционного бродила для старой схоластической и грубо-эмпирической науки. Поэтому против воли самого Велланского никто так не содействовал у нас возникновению естественно-научной медицины, как именно он, разрушая слепое поклонение Бургаву и его школе.
Одним из первых стал на новый путь профессор семиотики в академии Прохор Чаруковский (1790-1842), раньше адъюнкт Гейрота. Заслуга его как клинического преподавателя в том, что он первый в России писал «о стетоскопе и признаках, помощью его открываемых», и первый же стал употреблять его при клиническом преподавании.
Но особенно большое значение для своей эпохи имел Карл Карлович Зейдлиц (1799-1885), который был многосторонне образованным ученым. Он родился в Ревеле и учился в Дерптском университете. В 1822 г. прибыл в Петербург в качестве ординатора морского госпиталя, а в следующем году был послан в Астрахань для борьбы с холерой. В 1826 г. поехал за границу в Германию, Францию и Италию, а в 1828 г. прибыл в Россию, причем был назначен в Главную квартиру действующих против турок армий, где тогда была чума. После войны Зейдлиц вернулся в Петербург, а в 1836 г. он был назначен профессором клиники внутренних болезней Медико-хирургической академии, причем это назначение было сделано, помимо конференции, начальником академии Виллие. Однако академии впоследствии не приходилось пенять начальнику за это назначение. Зейд- лиц значительно поднял преподавание терапевтической клиники в академии и, вместе с Пироговым, сделал много реформ для преподавания у нас медицины. Он установил, чтобы студенты сами наблюдали и пользовали больных и вели бы подробные истории болезни, каждый в отдельности. Кроме клинических осмотров, Зейдлиц занимался также микроскопическими и химическими исследованиями, а также производил вскрытия. Задачи преподавания, по его мнению, сводятся к тому, чтобы, во-первых, обратить внимание учеников на явления, происходящие в здоровом и больном организме, во-вторых, учить анатомической диагностике, в-третьих, руководить учеником при наблюдении больных и, в-четвертых, научить ученика лечить болезни. В этом отношении взгляды, высказанные Зейд- лицем, во многом совпадают с взглядами, позднее высказанными Захарьиным. Но в своих научных воззрениях Зейдлиц не мог отрешиться от современных ему учений, хотя во многом опережал их. Рядом с устарелыми взглядами он высказывал и такие, которые не потеряли значения и до сих пор. Он постоянно применял выстукивание и выслушивание. Он первый описал симптомокомплекс, впоследствии известный под именем болезни Вейля. Он указал, что для развития чахотки, помимо бугорков, необходимо предрасположение. В вопросе о лихорадке он являлся противником антифлогоза[*] и ослабляющих способов лечения, выступая против рвотных, слабительных и кровопусканий, и стоял за укрепляющий способ лечения. Часто употреблял Зейдлиц отвлекающие. При тифах употреблял он ванны, при малярии — хинин. Его «Klinische Bericht» 1846 г. представляет образец учено-практического труда. В 1846 г. Зейдлиц оставил службу в академии и поселился в имении около Дерпта. Его терапия была высоко научна и основана на рациональных показаниях, на зрелом опыте и на близком знакомстве с действием главных врачебных средств. Он восставал против шаблонов и не подчинялся терапевтической моде. Этот выдающийся учитель, далеко опередивший свое время, имел огромное влияние на поднятие уровня образовательного ценза русских врачей. Многосторонне образованный ученый, Зейдлиц не только стоял на высоте современной науки, но и опередил ее собственными трудами. Новый дух повеял в академии. Зейдлиц первый указал раздельную черту между старинным эмпиризмом, отживавшим свой век, и фактическим рационализмом, зарождавшимся из научной точности физиологического опыта.
Такое естественно-научное направление медицины имело следствием учреждение в академии отдельной кафедры физиологии. До тех пор она была связана с анатомией, а затем с патологией, и только с 1847 г., когда ее представителем сделался Александр Петрович Загорский (1764-1846), она была совершенно выделена. Загорский был сторонником экспериментального метода в науке и последователем Клода Бернара, являясь предшественником Сеченова. Ему принадлежит также честь учреждения при академии физиологического института.
В связи с выделением отдельной кафедры физиологии, и практическая медицина изменяет свой характер и связывает свою судьбу с судьбами патологической анатомии. Таков был Николай Федорович Здекауэр (1815-1897), который стоит уже на уровне современной науки, хотя и мало оригинален сам по себе. Отправившись для усовершенствования за границу, он побывал у Мюллера, Ромберга, Рокитанского и Шкоды. Под влиянием Зейдлица он сосредоточился на изучении диагностической техники и патологической анатомии. Он впервые стал читать на трупах систематические лекции по патологической анатомии. Кроме того, он в 1866 г. основал главный холерный комитет, после чего совместно с Пеликаном основал общество охранения народного здравия. Здекауэр уже является непосредственным предшественником той эпохи, когда у нас появились врачи нового поколения, создававшие самостоятельную русскую медицину.
Гораздо выше, нежели внутренняя медицина, стояла в академии хирургия. Так как академия исторически развилась из госпитальных школ, то в ней сохранились те же принципы, что и в последних. Особенно ревниво оберегала академия ту связь анатомии с хирургией, о которой говорил еще Шрейбер. Поэтому при преобразовании школ в училища в них были учреждены кафедры анатомии, и первым представителем этой кафедры в Петербургском училище был Карпинский, а его адъюнктом был известный впоследствии анатом и профессор Медико-хирургической академии П. А. Загорский. Он сначала учился в Черниговской коллегии, а затем служил ратманом[*] в ратуше своего местечка. В 1784 г. он поступил в Петербургскую госпитальную школу, а в 1786 г. получил степень лекаря. В следующим году поступил адъюнктом анатомии в Москву, а затем в Петербург, после чего вскоре был назначен профессором. В 1803 г. был председателем конференции Медико-хирургической академии. В 1809 г. получил степень доктора медицины, а вскоре затем стал членом Академии наук. Загорский был представителем сравнительно-анатомического метода, хотя часто прибегал к метафизическим теориям. Наряду с хирургией и анатомией, он преподавал также и физиологию, руководясь учебником Прохаски [38]. Вместе с хирургией и анатомией стало развиваться
также и акушерство. Таков был первый русский профессор «повивального искусства» Нестор Максимович Амбодик, бывший одним из ученейших врачей своего времени. Он первый ввел демонстрации на фантоме, сделанном по его же рисункам. Ему же принадлежит заслуга введения в практику акушерских щипцов в Петербурге.

И. Ф. Буш
Собственно родоначальником хирургии в академии был Иван Федорович Буш (1771-1843), создатель первой хирургической научной школы, к которой принадлежали такие лица, как С. Ф. Гаевский, впоследствии профессор терапии, Н. Ф. Высоцкий, занявший кафедру в Московской медико-хирургической академии, В. В. Пеликан, профессор Виленской академии, Савенко, и особенно Саломон и Буяльский. Родился Буш в Нарве, которая в то время была населена русскими и немцами. Достигнув пятнадцатилетнего возраста, Буш поехал в Петербург и здесь поступил в Калинкинский медико-хирургический институт. По окончании института он был определен во флот, назначенный против шведов. Здесь он попал в плен, и по возвращении из него поселился в Кронштадте, где написал свое первое сочинение «De abscessu hepatis», обратившее на него внимание профессоров Кронштадтского медико-хирургического училища. Вскоре затем он назначается сначала прозектором, а потом профессором Кронштадтского училища. В 1797 г. Буш был приглашен преподавать анатомию и физиологию в калинкинском институте, а в 1800 г. получил кафедру хирургии в Петербургской академии. В 1807 г. он написал первое руководство по хирургии на русском языке. Это руководство было разделено на три части. В первой части говорилось об общей хирургии, во второй — о практический и в третьей — об оперативной хирургии. Все, что в начале XIX в. могло быть введено в хирургию, все было введено в преподавание, и студенты четвертого курса должны были сами производить операции на больных. Конечно, в круг ведения хирургии входили тогда и наружные, кожные болезни. Будучи назначен в академию, Буш принял также на себя заведование так называемой «клинической хирургической палатой» при Генеральном сухопутном госпитале. Но обстановка палаты была бедная, хирургических инструментов было недостаточно, и вообще профессор не чувствовал себя полным хозяином хирургической палаты и потому не мог вести преподавание хирургии в желаемом направлении. Лишь с появлением в академии Ивана Франка была устроена палата при сухопутном госпитале, каковая была передана в ведение Буша. Устройство вновь открытой клиники было очень плохое. Само здание было старо и ветхо, печи никуда не годились, в палатах было холодно, и ветер свободно гулял по палатам. Не раз Буш, видя, как хирургические больные заболевают разными внутренними болезнями, угрожал, что он откажется от заведования клиникой. Тогда здание начинали чинить, но результат получался тот же: больные мерзли и простуживались. Как бы то ни было, шаг за шагом, Буш все же добивался своего и приводил клинику в надлежащий вид. Но количество больных, проходивших за год через клинику, было невелико. Сравнительно с настоящим временем, была велика послеоперационная смертность, а «черепосверления» почти всегда кончались смертью от менингита. В 1825 г. Буш разделил кафедру хирургии, отдав оперативную хирургию Саломону, а за собой оставил клиническую хирургию. Как хирург, Буш был внимателен, аккуратен и осторожен. Он всегда стремился охватить патологическое значение случая и ограничиться терапевтическим лечением, лишь в крайнем случае прибегая к хирургическому вмешательству. При всем том Буш был лишен научной инициативы. Но как создатель хирургической школы он стоит вне упрека.
По выходе в отставку Буша кафедра хирургии распалась. Теоретическая хирургия перешла к профессору П. Н. Савенко (1795-1843), хотя и образованному хирургу, но малооригинальному ученому. Оперативная же хирургия с клиникой перешла в руки профессора X. X. Саломона (1796-1851). Получив свое научное образование во Франции у Дюпюитрена и у Купера в Англии, Саломон развивал у нас практическую хирургию, издав в 1840 г. руководство по оперативной хирургии. Он первый в России произвел перевязку внутренней подвздошной артерии и первый же произвел литотрипсию[*] с помощью разбивателя Гарте - лупа. В общем, как Савенко, так и Саломон представляют собою европейски образованных хирургов, причем последний известен был за границей.

И. В. Буяльский
Вместе с разделением кафедры хирургии было обращено также усиленное внимание на состояние преподавания анатомии. Третьему ученику Буша, Илье Васильевичу Буяльскому (1789-1866), было поручено преподавание анатомии, нормальной, патологической и топографической. Однако Буяльский был преимущественно хирургом, и анатомия служила ему лишь для совершенства в хирургии. В этом отношении Буяльский резко отличается от П. А. Загорского, который весь был предан чистой, а не прикладной науке. При Загорском кафедра анатомии достигла уже полной степени своего расцвета, при Буяльском же она держалась на прежней высоте, не развиваясь более. Зато перу Буяльского принадлежит одна из классических работ, подобной коей не было почти еще нигде в Европе. В 1828 г. вышли на русском и латинском языках его «Анатомо-хирургические таблицы, объясняющие производство операций перевязывания больших артерий». Эти таблицы представляют рисунки с натуры артерий и вен, налитых особым составом и освобожденных от мясных частей. Это издание произвело большую сенсацию не только в России, но и за границей. О нем печатались самые лестные отзывы даже за границей, и уже в 1829 г. оно было переведено на немецкий язык. Однако Буяльский более известен не как анатом, а как хирург. Он первый с успехом произвел резекцию верхней челюсти, одну из очень тяжелых операций. И это в то время, когда не были известны ни обезболивание, ни асептика. Лучше всего характеризуют Буяльского как хирурга слова Саломона, который говорил: «Если бы мне пришлось подвергнуться операции аневризмы, то я во всем свете доверился бы только двоим: Астлей Куперу и Буяльскому» (рис. 30).
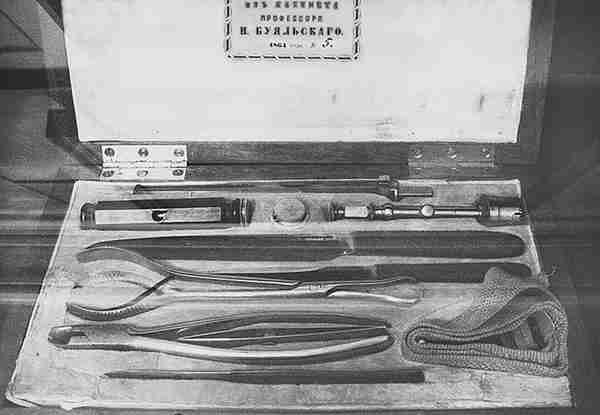
Рис. 30. Хирургический инструмент профессора И. В. Буяльского (Военно- медицинский музей Министерства обороны России, Санкт-Петербург)
Таким образом, в середине XIX в. медицина в России во многих областях достигла высокой степени развития. Особенно высоко стояла у нас хирургия, что объяснялось тем фактом, что Россия не знала приниженного положения хирургов, подобного тому, какое было в Западной Европе. И тогда как хирургия в Германии была большей частью еще в руках эмпириков, Россия имела уже школу Буша, уступавшую только французским и английским хирургам. В связи с успехами хирургии высоко стояла у нас анатомия, и мы в первой половине XIX в. видим таких блестящих ее представителей, каковы были Загорский и Лодер, пользовавшиеся европейской известностью. Гораздо менее успешно было у нас развитие терапии. Очутившись с самого начала под влиянием идей школы Бургава, она с большим трудом освобождалась от этого иноземного воздействия и становилась на собственные ноги. И лишь один Зейдлиц из многих представителей нашей внутренней медицины пользовался европейской славой. Наконец, в ту переходную эпоху царствования Николая I, когда промышленный капитал в России уже прочно стоял на ногах, борясь с остатками торгового капитала, стали уже появляться в русской медицине те общественные нотки, которыми так отличалось ее дальнейшее развитие. И впервые, вторя общему подъему русской буржуазной интеллигенции, с кафедры Московского университета профессор Иноземцев заговорил о русской, национальной медицине. Параллельно с этими переменами среди русских ученых происходит большая перемена и среди студенчества. Студент из бурша превращается в молодого человека, поглощенного высшими стремлениями. Начинается образование среди московских студентов тесно сплоченных кружков молодых людей, восторженных и чистых, сходящихся затем, чтобы выяснить себе вопросы философские и политические. Наиболее ярким выразителем эпохи явился Белинский, который, соединяя в себе большую эрудицию с пылким, неистовым чувством, был как бы создан для того чтобы сделаться воспитателем и руководителем русского общества в ту эпоху. В первую половину 30-х гг. он увлекался Шеллингом, но со второй половины этого десятилетия идеализм Шеллинга начинает сменяться у него суровой схемой философии Гегеля. Сыграв свою историческую роль и создав у русской интеллигенции неотложную потребность всегда иметь какое-либо мировоззрение, русское гегельянство сошло со сцены в 40-х гг., когда В. Г. Белинский, разочаровавшись в Гегеле, обратился к общественным темам и к французскому социализму. Вместе с этим происходит великий раскол русского общества. Идеологи отмирающего русского дворянства, следуя учению о самобытных путях развития русского народа, собираются под знамя славянофильства, тогда как молодая буржуазная интеллигенция, этот зародыш нашей народнической демократии, группируется вокруг Белинского и западников. И как бы вторя этому идейному расколу, возникают партийные трения и в медицинской среде. И в то время как «русская», славянофильская группа, руководимая Буяльским, шла в открытый бой со своими «немецкими» врагами, среди последних появился выдающийся западник, гениальный хирург-мыслитель, Н. И. Пирогов, реформировавший русскую медицину и поставивший ее на совершенно новые, самостоятельные рельсы [39].
